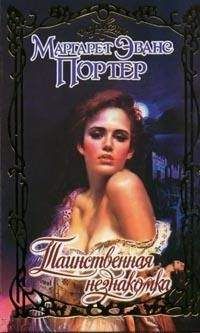Генрих Гейне - Стихотворения. Поэмы. Проза
Но мы, на беду свою, опоздавшие родиться, — мы живем в другие времена, у наших меценатов совершенно другие принципы; они полагают, что писатели и кизил лучше созревают, когда полежат некоторое время на соломе; они полагают, что собаки плохо охотятся за образами и мыслями, когда их чересчур откормят; ах! если нынешним меценатам и случится покормить какого-нибудь бедного пса, то обязательно не того, что следует, а того, кто меньше других заслуживает подачки, например, таксу, которая наловчилась лизать руки, или крохотную болонку, которая ластится к душистому подолу хозяйки, или терпеливого пуделя, который зарабатывает свой хлеб умением таскать поноску, танцевать и играть на барабане…
В то время как я пишу эти строки, позади меня стоит мой маленький мопс и лает. Молчи, Ами, не тебя я имел тут в виду, — ты-то любишь меня и следуешь за господином своим в нужде и опасности, ты умрешь на его могиле, верный до конца, как любой другой немецкий пес, который, будучи изгнан на чужбину, ложится у ворот Германии и голодает и скулит… Извините меня, madame, я отвлекся, чтобы дать удовлетворение моему бедному псу, теперь я снова возвращаюсь к Горациеву правилу и его непригодности для девятнадцатого века, когда поэты не могут обойтись без материальной поддержки своей дамы — музы. Ма foi,[93] madame! Я не вытерпел бы и двадцать четыре часа, а не то что девять лет, желудок мой мало видит толка в бессмертии; по зрелом размышлении, я решил, что соглашусь быть бессмертным лишь наполовину, но зато сытым, — вполне; и если Вольтер хотел отдать триста лет своей посмертной славы за хорошее пищеварение, то я предлагаю вдвое за самую пищу.
Ах, и какая же роскошная, благоуханная пища водится в сем мире! Философ Панглос{637} прав: это — лучший из миров! Но в этом лучшем из миров, надо иметь деньги, деньги в кармане, а не рукопись в столе. Хозяин «Короля Англии», господин Марр{638}, — сам тоже писатель и знает Горациево правило, но вряд ли он стал бы кормить меня девять лет, если бы я вздумал следовать этому правилу.
В сущности, мне и незачем ему следовать. У меня столько хороших тем, что долгие проволочки мне ни к чему. Пока в сердце моем царит любовь, а в голове моего ближнего — глупость, у меня не будет недостатка в материале для писания. А сердце мое будет любить вечно, пока на свете есть женщины; остынет оно к одной и тотчас же воспылает к другой; как во Франции никогда не умирает король, так никогда не умирает королева в моем сердце; лозунг его: «La reine est morte, vive la reine!»[94]
Точно так же никогда не переведется и глупость моих ближних. Ибо существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но глупостей существует тысячи, и все они беспредельны. Ученый казуист и духовный пастырь Шупп{639} говорит даже: «На свете больше дураков, чем людей».
См. Шуппиевы поучительные творения, стр. 1121.
Если вспомнить, что великий Шуппиус жил в Гамбурге, то эти статистические данные отнюдь не покажутся преувеличенными. Я обретаюсь в тех же местах и, должен сказать, испытываю приятное чувство от сознания, что все дураки, которых я здесь вижу, могут пригодиться для моих произведений, — они для меня чистый заработок, наличные деньги.
Мне везет в настоящее время. Господь благословил меня — дураки особенно пышно уродились в нынешнем году, а я, как хороший хозяин, потребляю их очень экономно, сберегая самых удачных впрок. Меня часто можно встретить на гулянье веселым и довольным.
Как богатый купец, с удовлетворением потирая руки, прохаживается между ящиками, бочками и тюками своего склада, так прохожу я среди моих питомцев. Все вы принадлежите мне! Все вы мне равно дороги, и я люблю вас, как вы сами любите деньги, — а это что-нибудь да значит.
Я от души рассмеялся, услышав недавно, что один из толпы моих питомцев высказал беспокойство относительно того, чем я под старость буду жить, — а между тем сам он такой капитальный дурак, что с него одного я мог бы жить, как с капитала.
Некоторые дураки для меня не просто наличные деньги, — нет, те наличные деньги, которые я заработаю на них, мною заранее предназначены для определенных целей.
Так, например, за некоего толстого, мягкого, выстеганного миллиардера я приобрету себе некий мягко выстеганный стул, который француженки зовут chaise регсéе.[95] За его толстую миллиардуру я куплю себе лошадь. Стоит мне увидеть этого толстяка, — верблюд скорее пройдет в царство небесное, чем он сквозь игольное ушко, — стоит мне увидеть на гулянье его неуклюжую походку вперевалку, как меня охватывает странное чувство. Не будучи с ним знакомым, я невольно кланяюсь ему, и он отвечает мне таким сердечным, располагающим поклоном, что мне хочется тут же, на месте, воспользоваться его добротой, и только нарядная публика, проходящая мимо, служит мне помехой.
Супруга его очень недурна собой, правда у нее только один глаз, но тем он зеленее; нос ее — как башня, обращенная к Дамаску{640}; бюст ее широк, как море, и на нем развеваются всевозможные ленты, точно флаги кораблей, плывущих по волнам этого моря, — от одного такого зрелища подступает морская болезнь; спина ее очень мила и пышно округлена, как… — объект сравнения находится несколько ниже; а на то, чтобы соткать лазоревый занавес, прикрывающий сей объект, несомненно, положили свою жизнь многие тысячи шелковичных червей. Видите, madame, какого коня я заведу себе! Когда я встречаюсь на гулянье с этой особой, сердце мое прыгает в груди, мне так и хочется вскочить в седло, я помахиваю хлыстом, прищелкиваю пальцами, причмокиваю языком, проделываю ногами те же движения, что и при верховой езде — гоп! гоп! тпру! тпру! — и эта славная женщина глядит на меня так задушевно, так сочувственно, она ржет глазами, она раздувает ноздри, она кокетничает крупом, она делает курбеты и трусит дальше мелкой рысцой, а я стою, скрестив руки, смотрю одобрительно ей вслед и обдумываю, пускать ли ее под уздою или на трензеле и какое седло надеть на нее — английское или польское и т. д. Люди, видящие меня в такой позе, не понимают, что привлекает меня в этой женщине.
Злые языки хотели уже нарушить покой ее супруга и намекнули ему, что я смотрю на его половину глазами фата, но мой почтенный мягкокожаный chaise регсéе ответил будто бы, что считает меня невинным, даже чуть-чуть застенчивым юношей, который смотрит на него с некоторым беспокойством, словно чувствует настоятельную потребность сблизиться, но сдерживает себя по причине робкой стыдливости. Мой благородный конь заметил, напротив, что у меня свободные, непринужденные рыцарские манеры, а мои предупредительно вежливые поклоны выражают лишь желание получить от них приглашение к обеду.
Вы видите, madame, что мне может пригодиться любой человек, и адрес-календарь является, собственно, описью моего домашнего имущества. Потому-то я никогда не стану банкротом, — ведь и кредиторов своих я умудряюсь превратить в источник доходов.
Кроме того, я говорил уже, что живу очень экономно, чертовски экономно. Например, пишу я сейчас, сидя в темной, унылой комнате на Дюстернштрассе{641}, но я легко мирюсь с этим. Ведь стоит захотеть мне, и я могу не хуже моих друзей и близких очутиться в цветущем саду, — для этого мне потребуется лишь реализовать моих питейных клиентов.
К последним принадлежат, madame, неудачливые куаферы, разорившиеся сводники, содержатели трактиров, которым самим теперь нечего есть, — все эти проходимцы хорошо знают дорогу ко мне и, получив только не «на чай», а на водку, охотно посвящают меня в скандальную хронику своего квартала. Вас удивляет, madame, почему я раз навсегда не выброшу подобный сброд за дверь? — Бог с вами, madame! Ведь эти люди — мои цветы. Когда-нибудь я напишу о них замечательную книгу и на гонорар, полученный за нее, куплю себе сад, а их красные, желтые, синие, пятнистые лица уже и сейчас представляются мне венчиками цветов из этого сада.
Какое мне дело, что для посторонних носов эти цветы пахнут только водкой, табаком, сыром и пороком! Мой собственный нос — этот дымоход моей головы, где фантазия, исполняя роль трубочиста, скользит вверх и вниз, — утверждает обратное; он улавливает в тех людях лишь аромат роз, жасмина, фиалок гвоздик и лютиков. О, как приятно будет мне сидеть по утрам в моем саду, прислушиваться к пенью птиц, прогревать на солнышке свои кости, вдыхать свежий запах зелени и, глядя на цветы, вспоминать старых забулдыг!
Пока что я продолжаю сидеть в моей темной комнате на темной Дюстернштрассе и довольствуюсь тем, что собираюсь повесить на среднем крюке величайшего обскуранта нашей страны. — «Mais, est-ce que vous verrez plus clair alors?»[96] — Натурально, madame, — только не истолкуйте ложно мои слова: я повешу не его самого, а лишь хрустальную люстру, которую приобрету за гонорар, добытый из него пером.
Но, между прочим, я думаю, что еще лучше было бы и во всей стране сразу стало бы светлее, если бы вешали самих обскурантов in natura.[97] Но раз подобных людей, нельзя вешать, надо клеймить их. Я опять-таки выражаюсь фигурально, — я клеймлю in effigie.[98]