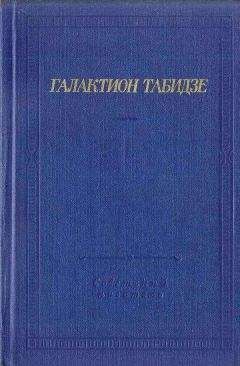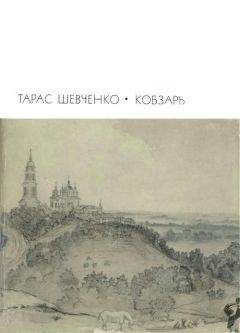Максим Рыльский - Стихотворения и поэмы
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1Раз зимним вечером (такими вечерами
Любил приехать я в родительский свой дом)
Денис нас посетил. «Исакович, что с вами,—
Вы в валенке одном и в сапоге одном?»
— «Болит!» — «Шутить нельзя с подобными вещами!»
— «Пустое! Опухоль на пальце, вон на том,—
Вот, значит, валенок я и надел». С азартом
Колоду взял Денис и весь отдался картам.
Кто в фильку не играл, я с видом знатока
Для тех поведаю о фильке и о бочке[157].
Собравшись засветло, четыре игрока
За картами сидят в уютном уголочке,
И ночка зимняя куда как коротка!
Два против двух сидят, и не в одну лишь точку —
В глаза товарищей поглядывают, знай,
И часто слышится: «А ну-ка, не моргай!»[158]
Жил в Сквире врач. Его фамилия Рушилов.
В дни юности своей горячий гражданин,
Достигнув зрелых лет, меж местных старожилов
Рушилов поостыл и не желал вершин,
И только иногда для «украинофилов»
Гараська[159] игрывал, украсив не один
Любительский спектакль. Я заявить посмею:
Тем больше был успех, чем доктор был пьянее.
У вас болезнь найти Рушилов мог — добряк! —
Но, разумеется, за гонорар солидный,
Коль не хотелось вам солдатом быть никак.
А был он человек в уезде нашем видный,
И в преферанс и в винт он был играть мастак,—
И все-таки игрой увлекся незавидной.
Врача ей обучил сквирянин-демократ,
И врач в любой момент играть был в фильку рад.
Весьма почтенные мужья у нас бывали,
Которые от жен бежали, кто как мог,
Дворами задними, и демоны их гнали
Не за «горилкою зашкурной»[160], не в шинок, —
В сарай заброшенный, кирпич где обжигали
В былые времена. Подпольный их кружок
Там под шумок играл. Бывало, полнедели
За картами они и день и ночь сидели.
И в нашем домике зимой по вечерам,
Таким волнующим своею тишиною,
Сходились игроки; они спешили к нам
Для яростных боев морозною тропою,
И начиналось: «Крой! Давай! Да это — срам:
С козырной картою выскакивать одною!»
Иль торжествующий взрывался хохоток:
«Вновь трынка!» — «Бочка вновь!» — «Запишем
вам рожок!»[161]
Хотя различные владели мной пороки,
Но заявить могу я искренне вполне,
Что карточный азарт, для многих столь жестокий,
Был совершенно чужд и непонятен мне.
Зато — как я любил в окно на мир далекий
Глядеть, туда, где снег сверкает в полусне,
Где лунный синий блеск расплескан по равнинам,
Где нет числа следам таинственным звериным.
Когда же разговор у братьев заходил
С Денисом, с Куркою (Остапенком Игнатом)
О празднике весны, который легкокрыл,
О месте нереста[162], особенно богатом,
И кто-нибудь о том беседу заводил,
Какой наживкою линям тяжеловатым
Получше угодить, чтоб шли на ваш крючок, —
На пруд не улетать в мечтаньях я не мог.
Сейчас же он лежал под ледяной корою,
Но жизнь дремотная таилась всё же в нем.
Зимою окуней ловили мы порою:
Бывало, луночку в броне пруда пробьем
И ловим на блесну. Умелою рукою
Денис их отливал из цинка. Все кругом
Спиральную блесну[163] Дениса одобряли.
Он в этом деле знал соперников едва ли.
Упругая леса, с крючочками блесна —
Подобье некое какой-то рыбки малой, —
Пусть эту снасть твою встречает глубина.
Сам знаешь хорошо, коль ты рыбак бывалый,
Как действовать блесной, а если, старина,
Не знаешь — не берись! Но счастья нет, пожалуй,
Великолепнее — почувствовать рывок:
То щука дернула иль славный окунек.
А синие снега блестят на вольной воле,
Сияют небеса, и свет их всё синей,
И — видишь — катится лиса в морозном поле:
Мышкует[164], хитрая; и там, где след саней,
Добычу увидав, терпеть не в силах доле,
Вдруг ястреб падает над жертвою своей.
А куропатки вдруг завидели Игната,
И стайка унеслась, смятением объята.
И тишина… Лишь мысль: клюет иль не клюет?
Рука настороже, рука — само вниманье.
А только месяц март тихонько подойдет —
В природе некая тревога, ожиданье.
Рыбак шпаклюет челн, а засинеет лед
И первых вешних вод начнется проступанье —
Упорный рыболов спешит с ружьем на луг
И в вербах прячется, подстерегая щук…[165]
Летят, и кажется — их что-то подгоняет,
Спешат пернатые — пролетные, свои —
И на проталинах весенних отдыхают,
И даже Родион, сей патриарх семьи,
Охоте преданной, порой не всех их знает.
А дальше вод разлив, и селезней бои
В прозрачном воздухе, и птицы парованье,
И убывающих ночей очарованье.
Тревожных вешних дней все радости познав,
Их позабыть не мог и в зимнем я покое,
И предо мной опять был Унавы рукав,
И в лодках — рыбаки (вот тут один, тут двое),
И дальний клин гусей, и зелень первых трав,
И легкий поплавок, чуть зыблемый водою,
И над сырой землей едва приметный пар,
И блеск серебряный на крыльях у гагар!
Рассказом я открыл шестой главы начало
О зимнем вечере над карточным столом…
Денисовы следы с тех пор легко, бывало,
От прочих отличить: он в валенке одном
И в сапоге спешил на пруд, и там сверкала
Его блесна, иль в сад он уходил потом,
Иль, пользуясь иной свободною минутой,
В овраг на зайцев шел, причудливо обутый.
Усиливалась боль, и не хватало сил
Терпеть несчастному: с ногой всё хуже было.
Он мазь испробовал, столетник в ход пустил,—
Страдания его ничто не облегчило,
Не помогла ему и бабка. Убедил
Дениса наш Иван (уговорил насилу)
Пойти к Рушилову, и лекарь сквирский тот
Под наблюдение Каленюка берет.
«Ложитесь-ка на стол, под ножик. Ну, дела!» —
Прорезать некие хотел Рушилов ходы.
Палата номер три прескучная была:
Не шевелясь лежи, беря пример с колоды,
Как раз когда весна особенно мила
И нерест щук идет там, где помельче воды,
Как, впрочем, и всегда — у самых берегов…
И вот не выдержал: бежал мой рыболов.
Вот с острогой[166] в руке на пруд идет, хромая,
Денис Исакович. Хоть больно — не беда!
Сияет верболоз, и нежно-голубая —
«Добро пожаловать» — ему журчит вода,
И для него поет на небе птичья стая!
Вот место нереста. Да как попасть туда?[167]
Но не привык стоять он в размышленье долгом,
В пруд ледяной войти своим считая долгом.
Еще с Адамовых времен известно нам —
Слепая страсть для нас любой беды замена.
Денис Исакович во всем виновен сам:
Болячку запустил, а результат — гангрена.
И к киевским его теперь везут врачам.
Две операции, и ногу до колена
Врачи на третий раз отрезали ему.
Калекой он спешит к хозяйству своему.
Раз к потребиловке с утра сошлись крестьяне.
На деревяшке был Денис меж них. Купить
Им надо было кос (кончался май) заране.
И косы выбирать, о них судить-рядить
Все важно принялись. Калеке сердце раня,
Вдруг кто-то выпалил: «Тебе уж не косить,
Денис Исакович!» Собрание смутилось:
Слезинка по щеке Дениса покатилась.
Красавец, ухажер, работник хоть куда,
В руках которого коса сама косила, —
Теперь считался он пропащим навсегда,
Хотя и сбереглись душа его и сила.
Бывает так порой, что горе да беда
Калеку обозлят. Напасть не изменила
Дениса доброго. Я помню даже — раз
Он с прежней лихостью пустился было в пляс.
Там, смотришь, и косить он как-то наловчился
И умудрялся жать, хоть и с одной ногой.
Когда ж делец Рудой мудреную решился
Построить мельницу с турбиной водяной —
Денис Исакович к нему определился
В ночные сторожа: он в тишине ночной
Постройку сторожит, а лишь забрезжит — значит,
Не спать Денис идет, он на пруде рыбачит.
Я помню девятьсот четырнадцатый год…
Ох, и ловился же в то лето карп проклятый!
С мешочком на боку среди спокойных вод,
Как придорожный столб, дедок чудаковатый,
Бывало, всё стоит и с места не сойдет,
Одним желанием, одной мечтой объятый.
И вовсе тот дедок рассудок потерял,
Когда он рыбину так в фунтов шесть поймал.
С Денисом вместе мы приманку засыпали:
Пшеницу (мы ее варили) и горох,
Места на берегу мы рядом выбирали.
Бывало, воду лишь или прибрежный мох
Осветит первый луч, а мы из сизой дали
Приходим с братьями: встречает двух иль трех
Нас Каленюк Денис. Садимся. «Вот и ладно!»
— «Ну что?» — «Да есть один». — «А как велик?» —
«Изрядно!»
Лазурный, розовый среди зеленых трав,
Мой пруд и молодость — далекое былое —
И в грозные года (скажу и буду прав)
Не только лишь слова, а нечто дорогое.
За молодость свою, за вышитый рукав
(Он только раз мелькнет) — за это, столь родное,
Любую плату б дал, лишь было б чем платить…
Но что за счастье — карп? — вы можете спросить.
Смеяться можете, — меня Избави боже
Читателей моих смешливых уверять,
Что чувство рыбака с восторгом жгучим схоже
И что восторг его в одном словце — поймать!
Но помириться вам придется с фактом всё же:
Великолепный карп! Так, фунтиков на пять!
Подобных не найти, скитаясь по базарам,
Свой дорогой досуг истратите вы даром.
Рассветы, лето, пруд, разлитый широко,
Из Тулы мастера, с моими земляками
Затеявшие бой отчаянный в «очко»
В минуты отдыха на дамбе под кустами,
В окошке «инженер», зашедший далеко
В искусстве бранных слов, — вся эта перед вами
Рудого вотчина, вся эта сторона
Здесь «новой мельницей» звалась в те времена.
Да, у Рудого был сосед — сутяга рьяный,
И тяжба между них велась: неясный план
Какой-то «геометр» состряпал, видно, пьяный.
Пан Янушкевич был прелюбопытный пан,—
За версту перед ним седые стариканы
Ломали картузы. Один лишь из крестьян
Его держал в руках: свидетель этот лживый
Не брезговал в судах присягою фальшивой.
У Янушкевича бывал обычай крут:
В его владениях удить, стрелять — не пробуй,
Поймают сторожа и перцу зададут,
Иль Янушкевич сам пальнет с холодной злобой
В воришку из ружья. Раз к барину на пруд
Три паренька пришли с дырявым бреднем, чтобы
Страсть сердца своего хоть малость утолить:
Линей, да окуней, да карпов наловить.
Холодные деньки тогда уж начинались;
Зуб на зуб у ребят едва ли попадал,
Когда они в воде, как тени, продвигались
С сетями… Чей-то крик внезапно зазвучал:
«Ага, голубчики! Ну вот вы и попались!»
И Янушкевич их по шею в пруд загнал
Часа поди на два, стреляя дробью злою…
Хворали трое — все; в живых осталось двое.
И собственности страж, и честности оплот,
Он стал помещиком не слишком будто честно.
Именьем управлял не месяц и не год
Помещицы одной, и говорят, известно:
Он госпожу свою от всех земных забот
Избавил, отравив, — что в сказках лишь уместно
Про королевичей да королевен. Так
По-воровски он стал владетелем Кошляк.
А некий господин считался инженером
И делом мельничным в деревне заправлял.
Любитель пострелять, служа для нас примером,
Охотничьей порой он уток поджидал
На кровле мельницы и этаким манером
Вечерние свои досуги коротал.
Воздвигнув башенку на мельничном строенье,
Прославился навек он гордым тем твореньем.
Плотина, мельница, ракита — милый вид
Для сердца моего навек незабываем.
Хотя не молод я, но кто же запретит
Стихам моим цвести апрелем или маем?
От эха дальних лет (поэт так говорит)
Не прахом веет лишь, — мы в юность вновь вступаем
В воспоминаниях… Подобная строка
Лишь вечного брюзжать заставит старика.
Кто знал вечерние вот эти перелеты —
И радость на земле большую видел тот.
Блистают небеса от тонкой позолоты,
За точкой точечка по золоту плывет.
И окрик: «Не зевай!» — «Не прозеваю, что ты!»
И впился взгляд в крыло, туда, вперед, вперед…
Скажу, хоть убеждать не стану маловера,—
Однажды обстрелял[168] я даже «инженера»!
Я память о тебе в душе моей таю,
Последний, может, год моей весны хорошей.
Как мне забыть ее! Ведь молодость мою
Не скроет от меня и старости пороша…
На перелете раз меж двух ракит стою,
На кровле ж «инженер», и слышу — письмоноша:
«Война с Германией!» — кричит ему и мне.
Так с «инженером» мы узнали о войне.
Тогда, в начавшейся не разбираясь драме,
Хотя в политике был «инженер» мастак,
Не замечали мы свинцовых туч над нами,
Не понимали мы, что это грозный знак,
Что буря близится, с громами и дождями…
Да что тут говорить! С людьми бывает так,
С крупнейшим знатоком былых веков бывает:
Он современности своей не понимает.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ