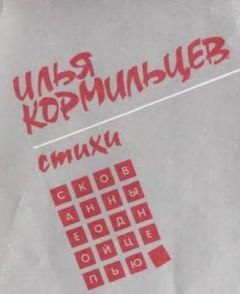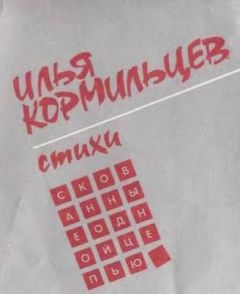Яна Джин - Неприкаянность
Пер. Нодар Джин
НЕСПЕШНАЯ ЗАПИСКА
У океана в зимний день
Чайка припала к останкам гниющего краба —
панцирь его разлагается сладко под зимним лучом.
Солнце бредёт по тропинке своей отрешённо.
Слуху не ведомы звуки шипящей волны.
Шире широких просторов, ужасней, чем ужас,
больше того, что душа научилась вмещать,
он, океан, — продолжение вечного страха,
коему нечего вспомнить и предвещать.
Корни души нашей гибнут с первой слезою,
пролитою теми, кто сжалились над собою.
Поэтому селимся, люди, в больших городах, —
в царстве загубленных душ, где царствует страх.
И тянемся, люди, к пространству очерченному,
ибо в отличьи от птиц недоверчивы мы
к сплошному пространству. А чайки миндаль
множит деталь на единую синюю даль.
Птица живёт как положит ей птичья душа.
Замри на ветру — вслушайся в звук не дыша.
Пер. Нодар Джин
IN MEMORIAM
Joseph Brodsky
И опять я пытаюсь в трёх соснах лес
разглядеть, иголку в стоге сена, где
мы с тобой бестолково валялись, без
благодарности (как её там?) судьбе,
полагая по глупости — этот час
легче пыли; ещё, если помнишь, — не
понимая, как он будет нас
донимать, в грядущем угрожая мне
Бог весть чем, а тебе — рецидивом света
в настоящем (ты видишь сны?),
неумолимо мерцая где-то
за оголённым серпом луны.
И опять я ищу повод, случай
сойтись, обняться среди чернил
на бумаге, а не среди скрипучей
кожаной мебели. Сохранил
ли ты в памяти страх мой
пред ней, — единственным кроме нас
слушателем раскатистых, ледяных
и размеренных слов твоих —
как ты изрекал их. Всякий раз —
словно античный хор, наотрез
сотрясающий мир,
только без
приговора его и лиры.
Вот ещё попытка воскресить
твою музыку в настоящем времени,
и тут же, позабыв про суть вещей,
как та змея из книги Бытия,
предать его, чтобы в невидимую щель
протиснуться и в будущее выйти. Я
и ты — в грядущем — кто мы есть?
Кресты, приставшие к оси. Бушует пламя,
и назорей-слепец, выкрикивая «Месть!»
жонглирует своими топорами.
Ах, запоздалая попытка дотянуться в бездну ту!
Там — ты услышишь, ибо
слова пронзают пустоту
стремительнее, чем могли бы
слёзы. Любовь — не ответ, не вопрос,
это шум благодарных губ, что бормочут
слова без смысла; так мраморный торс
сердечная боль не источит.
И потому Отсюда я без отча —
яния, невольно, медленно, сухо
посылаю тебе забвенье, шепча
в твоё чуткое и прозрачное ухо.
Пер. Бахыт Кенжеев
IN MEMORIAM
Joseph Brodsky
Сие — попытка отыскать
иголку в стоге сена,
чтобы случайно не назвать
тоску или измену
по имени. Чтобы найти
в трёх соснах лес дремучий.
И, как по лезвию, пройти
к судьбе — одной из лучших.
Чтобы при встрече под луной,
когда она случится,
услышать «Прав я?» и к другой
луне оборотиться.
Сие — попытка оправдать
молчание у гроба,
чтобы случайно не сказать
чего-нибудь другого…
И стул, чей скрип внушает страх —
единственный свидетель превращенья
бумаги в кожу! Далее в стихах —
не то, что память, но уже — прощенье
отсутствия певца. И хор молчит.
Безмолвствует, как треснутая лира
в руках Творца. И где-то там, в ночи,
во след певцу качается секира
и чей-то голос жалобный звучит.
Сие — попытка голос обрести,
не тот, — другой, который в половине
родившихся детей звучит
и властвует. Отныне
лишь он — возможность будущему жить,
где тень земная между сосен бродит,
пытаясь отыскать спасенья нить,
как та змея в Начале, что-то вроде
кривой с координатой «мы» на Х,
помноженной на мщенье Иисуса.
Сие — попытка Там тебя окликнуть.
Сквозь пустоту — услышать, прикоснуться,
пробормотать «Спасибо!» В этот час
лишь ангелы над смертными смеются,
но звук летит и достигает края,
где содержание не властвует над звуком,
и где герой не шепчет «Умирай!»,
а, прислонясь уже прозрачным ухом
к просвету в облаках, он слышит вдруг
как я шепчу ему: «Послушай!»
И, отрываясь от чернильных рук,
звук исчезает… Так, наверно, души,
как мотыльки, летят на новый звук.
Пер. Андрей Драгунов
МНЕНИЕ ОДНОГО ПОЭТА
Поэзия — я тоже недолюбливаю это.
(Мэриэн Мур)А что стихи? — свидетельство гордыни,
свидетельство того, что он, поэт,
бессрочно заперт, как вода в графине,
в самом себе, того, что много лет
в глуши души, уподобляясь волку,
мечтал, что книга с именем его
найдёт приют на чьей-то пыльной полке.
А что ещё? А больше — ничего.
Вся жизнь, витиеватая, как букли,
паденье, взлёты, торжество идей —
всё это — только буквы, буквы, буквы,
замызганные пальцами людей,
не знающих ни самого поэта,
ни вкуса крови, источавшей звук.
Но может быть, «лучом младого света»
его строку однажды назовут.
И что?
Ведь ночь — свидетельница страсти,
принявшая обличье чёрной власти
над криками сверчков
и над луной,
куда реальней и куда прекрасней
строки одной. И даже — не одной.
Ведь жизнь прекрасна
даже без прикрас,
поскольку жизнь даётся только раз.
Жить тем, что будет после —
будет поздно,
поскольку всё, что к нам приходит после —
ничто.
Не-Бог,
не-чёрт,
не-пустота,
не-сон,
не-явь,
не-зло,
не-доброта,
не-ложь,
не-правда,
не прикосновенье
рук Шивы,
не плохое настроенье,
ни света — дням,
ни транса перед сломом,
ничто — что нам не обозначить словом.
Пер. Ефим Бершин
ПЕСНЯ ДЛЯ ПОТЕРЯННЫХ
Никто не поймёт —
как получилось:
то, что любила,
убыло с пылью.
Вчерашний вздох
спирает горло.
Дохлые крысы
гниют соборно
в лужах отхожих.
Всё, что природе
стало негоже, —
она изводит.
Судьбы твоей дням
не срифмоваться.
Мыслям разбродным
не рассосаться, —
подобно толпе
уличной ночью,
что болью потом
память источит.
Но общие в памяти
вещи и звуки
лишают смысла
«потом». И потуги
проникнуть туда,
как в игольное ушко,
напрасны. Верблюд
ушлый из ушлых
в него не посмеет
проткнуться, — кичиться
победой стоической,
приобщиться
к славе Христовой.
Пустыня стонет:
вульгарная юность
её уж не тронет.
Пер. Нодар Джин
МЕЛКАЯ ИСПОВЕДЬ
С тех пор, как умер ты, ничто не изменилось.
Ничто и не должно было — наверно.
Всё хорошо по-прежнему, уныло.
Так лист пустой лежит безверно, —
без упования на мысль и краску…
Всему завязка — доллар, как и было.
И, как и было, меньше значит кто ты есть,
чем с кем была, — жила, водилась.
И, как и прежде, небольшая честь,
на мир смотря издалека, твердить о том,
что это — дом терпимости.
Но всё же — дом…
Ничто не изменилось. И боюсь,
ничто и не изменится отныне.
Для этого необходим союз
отваги с волей. А точнее, — крестовина.
Ещё — готовность в крест раскинуть руки.
Ничто не изменить без муки.
Но мы расстаться не умеем даже
с ушедшим миражом. Начаться снова.
Спряженье страхов и отрад дешёвых —
вот что такое человек. Ажиотажа
он никогда не стоил. Не ошибка
природы. Не трагедия. Не шибко
что-нибудь вообще. Вот, скажем, дверь.
Он вознамерился её открыть, —
но как бы брезгует. Или не верит,
что хочет… Проявляя прыть
в пустом смотреньи в сторону пустой
стены, где эта дверь. И в позе той
одной он постоянствует. Но тень
на той стене его бледнеет что ни день
и постепенно сходит в грязное пятно,
которому движенье не дано.
Ничто не изменилось.
Может, — я немного.
Боюсь — не к лучшему.
Когда-то я слезилась
при виде чайки на закате. Одинокой.
Теперь уж нет. Теперь уже слеза —
такая трудность… Как побить туза.
Ещё, боюсь, по ходу этих дней
неумолимей стала я. Трудней.
Как тот отставленный любовник,
что не побил привычку, — верную жену.
Любовь беснуется иль топчется виновно, —
не склонна жизнь пускать её в свою страну.
Теснит со всех сторон. Бесшумно
колотит доводом благоразумным —
и приучает нас считать привычку
самой любовью: как кавычку и кавычку,
не различаем свой и посторонний дом,
когда подолгу в доме том живём.
Добропорядочности вымученной цвет
на наших лицах проступает. Стёрты
следы страстей. Что ни лицо, — портрет
усовестившегося чёрта.
Не доброту года несут ему, — морщин
тугую сеть, в которой вязнут нимфы,
заладившие: «Чистоты причина —
усталость плоти, помутненье лимфы.»
И вот тогда Своим мы нарекаем Домом
плавучий остров, Несвоейземлёй рекомый.
Тогда — кого любили, изживаем
во имя тех, с кем время убиваем.
А вместе с ним — себя. Мы умиранию
с корнями — учимся во имя выживания.
И начинаем из последних сил цепляться
за жизни полу-затонувшей остров-круг.
Полу-чужой, полу-знакомый… Нам сдаваться
пора. Исторгнуть исступлённый вой.
И вздрогнуть в тошном страхе, если вдруг
мы это назовём Судьбой.
Пер. Нодар Джин