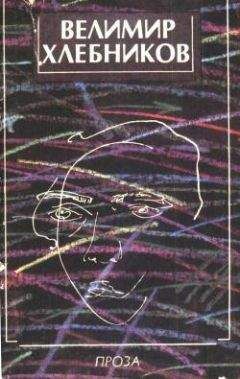Велимир Хлебников - Том 5. Проза, рассказы, сверхповести
Вы удивляетесь красоте слабого, отклоняющего участие и сострадание сильного. Но как велика красота поступка, когда слабое конечное существо отклоняет участие и сострадание бесконечного существа? Не кажется ли вам тогда, что слабое конечное существо вырастает, выходит из границ конечности, и не становится ли оно тогда в вашем сознании, маленькое конечное существо, рядом с великим бесконечным?
Когда Спиноза писал свое: «Кто любит Бога, тот не может стремиться к тому, чтобы и Бог его любил», он добровольно отказывался от участия и сострадания к себе божества.
Вот, под впечатлением духовной красоты этой истины Спинозы, Воейков сидел и всматривался в заполнявший углы темный воздух комнаты, где за зеленым сукном сидело много читающих. «Чтобы и Бог его любил… не может желать того», – повторил, всматриваясь в темные углы, Воейков, замирая и стараясь, чтобы эти слова всей своей природой запечатлелись в его сознании. И по мере того, как он думал, что-то новое и красивое светлой волной вливалось в его «я». «Тот, кто любит Бога», – мечтательно повторил <он>. И потом Воейков торопливо схватил книгу и, торопливо перелистав ее, с жадностью стал всматриваться в эти черты, в которых сквозь телесную немощь просвечивала какая-то неземная духовная красота. «Cui Deus, nature, rerum cui cognitus, ordo…» Нет, дальше, дальше. И торопливо отыскав страницу, Воейков жадно стал читать теоремы, тропари, королларии, в стройном порядке разворачивавшие картину удивительно цельного миросозерцания.
Так… «В природе вещей нет ничего случайного, но все определено необходимостью божественной природы к существованию и действованию известным образом». Необходимостью божественной природы… «Вещи не могли быть произведены Богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, как в том, в каком они произведены». Он подчинил само божество законам необходимости!
Швейцар подавал ему пальто, и он брал его в руки и тускло смотрел на него, а в голове у него проходил королларий. Но вот он сорвался на средине, задрожал и исчез, и потом снова появился и тихо стал проходить перед сознанием.
«Ну вот, – несколько оглушенный этим переходом от стройных короллариев Спинозы к этой трясущейся мостовой, к этим дребезжащим фонарям и к этой суетной жизни улицы, – ну вот… как же это? да!» – озираясь в своем сознании и отыскивая уплывшие следы короллариев Спинозы, думал Воейков, тускло вглядываясь в улицу.
«Да…
Х-хо-орошо», – и наладив дело и возвратив убежавшие королларии, Воейков сошел со ступенек и тихо, не изменяя положения глаз, которыми он, закусывая губы, смотрел поверх толпы в одну точку, он пошел по дорожке для пеших.
Само божество подчинил он необходимости! Это красиво. Но так ли… Не есть ли закон причинности скорее условие нашего познавания? А если есть, то можем ли мы распространить на все жизни условия нашего познавания? А все-таки какая красивая, точная форма… Как одеянье слова плотно обхватывает у Спинозы стан мысли… поверхность ее обтягивает без ненужных складок… совпадая с ней по кривизне…
* * *Сейчас, когда он думал об этом, ему все это казалось ясным, само собою подразумевающимся. Все это было так ясно и очевидно, что нельзя было даже допустить возможности неосуществления этого. Но после.
Да, а кроме того. Кроме того, да, я яйцо? Ведь яйцо чтобы заставить, то есть чтобы из яйца, которое только что снесла курочка, вылупился цыпленок, ведь для этого вовсе не нужно знать и уметь воспроизвести все состояния, через которые проходит только что снесенное, прозрачное яичко, чтобы стать цыпленком. Ведь только нужно известное время держать окружающий воздух и вещи в известных границах колебаний теплоты, остальное совершится само собой. В самом яйце находятся достаточные условия для того, чтобы, сузив границы колебания теплоты, мы достигли бы вылупления цыпленка. А вся сложность движений и хлопот курицы, которую с ее телодвижениями мы никогда не могли бы воспроизвести, сводится к внесению этого нового, дополнительного условия в ряд условий, необходимых и достаточных для вылупления из яйца цыпленка, к этому простому, легко доступному для повторения и воспроизведения воздействию на яйцо.
Вот то же самое и в человеческом зародыше. Вот, во-первых, мы часто очень встречаться будем с… ну… как же? да! встречаться будем с тем, что нередко самые легкие, самые удобные для повторения воздействия на зародыш будут достигаться самыми сложными движениями и [текст обрывается].
* * *Так тоскливо, уныло. Куда идти, на главные ли улицы, где большие, ярко освещенные стекла с разложенным товаром тянутся вдоль улицы и где люди с завитыми усиками, раздушенные и в воротничках думают, что этой своей раздушенностью, завитыми волосами они приобрели право выставлять свой грубый эгоцентризм?
Нет, там слишком мало зелени, там нет полевых цветов, там люди видят удовлетворение своего честолюбия в замене полевых цветов мертвым камнем, жизни – смертью.
Нет, пойду на окраины.
Но образ, весь вечер встававший и отгонявший смысл тех строчек, которые он читал, встававший перед ним и тогда, когда он подымал голову и, думая, смотрел на стену, образ, выражавшийся не совокупностью зрительных, распределенных на экране пространства ощущений, а какой-то тенью каких-то неизъяснимо-тонких ощущений чего-то нового, дорогого, благоухающе-прекрасного, вдруг задрожал, смутился и растаял, и когда Воейков силой воли хотел его вызвать снова, он появлялся каким-то искусственным, нецельным, в котором недоставало главного – связывавшего и одухотворявшего его чувства.
Вместо же него оставалась и грустно-строго смотрела серая пустая действительность.
«Как пошло», – почти с тоской подумал Воейков.
* * *Ему припомнились слова одного поэта-мыслителя, Надсона («сравни дела людей с делами природы»)…
Да, это хорошо: это так как-то находило полный отклик в его душе. Да он и сам, если бы хотел, не мог бы дать более плотно обхватывающей словесной оболочки, дать более полное отражение своему настроению.
Лувр, Дрезденская галерея с Сикстинской Мадонной, Национальная картинная галерея в Лондоне; в них, в этих полотнах, в этих мраморах и бронзах, сколько вложено огня вдохновенья, сколько потенциального чувства красоты. И все это погибнет.
Ему стало страшно за судьбы этих статуй, этих картинных галерей с длинными рядами красиво и искусно уставленных картин; при появлении каждой из них сколько раз произносилось слово «вечность».
<1904–1906>
«И тогда захотелось уйти…»*
…И тогда захотелось уйти в свежую зеленую чащу, где не было этих животных с парой скучных человеческих ног. И окунуться в глубокую и холодную воду, где плавали рыбы, у которых не было этой пары скучных человеческих ног. И мне переставало хотеть быть человеком, если у этого человека пара скучных человеческих ног. Скучные?
О, головы, сказавшие: прощай! ногам. О, таинственные воды, лучшее творение людей, в которых, подобные бледным купавам, плавают одинокие человеческие головы.
О, животные с парой скучных ног, о, тонкий и острый кинжал с черным черенком, витым узором и надписью «Осман»!
И тогда я, голова, с любопытством рассматривал маленькую кровоточащую ранку, нанесенную послушным моей воле братом-рукой брату-ноге.
Было ли во мне сострадание? Нет: улыбка веселила мои уста, мозг не жалел своего брата, толстого бедного брата. Толстого глупого брата – белую благородную ногу.
<1904–1906>
Училица*
– Соловушко вселенноокий, ты песней взял меня в полон. Звукун! Уже близка ночь, и приближается стадо поцелуешерстных, любверогих овец, так как слышу рожок пастуха, и он уже властен над моей душой. И пылью, одеяющей стадо, кажутся миги ожидания, полные трепета.
О, не томи мою душу, так как тобою полон товарищ моих ночей, полночебровый ясавец.–
Так молилась училица Бестужевских учин Любочка Налеева, сидя в темной от копоти и пахнущей травами и зельем-сушимцем хате ховуна.
Может быть, текла вниз борода сребровитой куделью, может быть, это было морозное утро над заброшенными в степи огнеокими избушками.
Если это не было сивое зимнее утро, видимое откуда-нибудь из узкого места, из затянутого бычачьим пузырем окна, то это могла еще быть охладевшая, посизелая головня, в которой мелькали злобные вишнево-желтые огоньки-очи под отяжелевшими ховунскими веками.
– Нет руки славицу нести в злые сети, но есть много рук взять оттуда и посадить в сладчайшую клеть. Помни, девица, и не иди в пламя. Есть у тебя и седая глубокоокая мать – разрыдается она в старости, есть и престарелый отец.–
Так говорил ховун, раскачиваясь и полузакрывая глаза, и в таинственном мареве его выражений мелькал молодой и прекрасный смертноша с черными, как ночь, глазами и щеками, малиновитей зари.