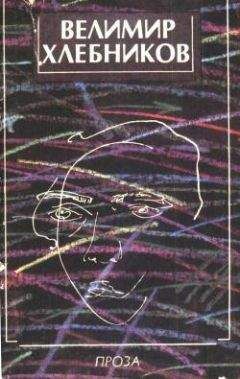Велимир Хлебников - Том 5. Проза, рассказы, сверхповести
А после я поднялся и, тихо зевнув, поплелся назад.
Что-то ликовало в моей душе и било, ликуя, в ладоши, а что-то тихо поднялось на крылья и отлетело прочь от моей души.
«Дон» – пронеслось в воздухе. «Дон» – пронеслось, задорный и упрямый «дон». Пронеслось примиряюще и успокаивающе.
<1904
«Отчего мне сделалось тогда вдруг так скучно…»*
Отчего мне сделалось тогда вдруг так скучно, тоскливо? Оттого ли, что мне хотелось тогда видеть ответность видений, слышать ответность звуков моему «я» в тот миг?
Оттого ли, что я ослабел ненадолго и искал в жизни поддержки? – не знаю.
Оттого ли, что я мучительно прислушивался к ней и искал в ней того, ради чего бы стоило жить, а она мне, ровно и тихо проходя предо мной, бесстрастно говорила, что нет того, ради чего стоило бы жить?
Оттого ли..? Не знаю, только вдруг мне сделалось грустно и скучно, и захотелось собраться, сделаться маленьким и одиноким, и всему уйти в себя и от всего отделиться.
Не знаю, только я, опустив голову, тихо прошел в другую горенку, и там мой взгляд увидел много ландышей, собранных вместе и обвернутых листами. Они стояли на окне. А за дверями слышался голос, ровный и спокойный.
– На базаре, – пел, – что закупишь? – говорил он, – не знаю, уж там что… мясо почем? по двенадцать? как дорого. Может быть, уступят? Никогда уж не уступят…
И этот голос насмешливо-ровно говорил в тот миг, что в жизни нет ничего, ради чего можно было бы жить, что только то, о чем они так громко, не стыдясь сказанного, говорят, только то может быть тем, ради чего можно было бы жить.
Тогда я подошел к снопику ландышей, стоявших в прозрачном стакане, и вынул из середины веточку, и, наклонясь к нему, говорю тихо, не шевеля губами:
– Вот я тебя беру, ландыш… вот ты дотронулся своими прохладными головками – они такие белые и нежные – к моим губам, вот я слышу твой запах – белый снег!
Мое сознание – одно! Возьми его у этих бедных <ландышей>.
Я тебя только чувствую, белый, с <поникшей> головкой ландыш. Я тебя даже не знаю… Нельзя, плывя против течения, искать у <людей> поддержки. Так будь моей поддержкой, белый, <поникший> ландыш.
<1904–1906>
Еня Воейков*
Но было бы очень далеко от истины думать, что автор старался изобразить себя; более того, именно уверенность, что каждый поймет, что автор не желал изобразить себя, а лишь, пользуясь образами детства и юношества, пытался дать художественный образ, не имеющий или имеющий очень мало отношения к нему самому, только эта уверенность и дала возможность и право автору представить это произведение.
* * *– Мама! Что значит: я живу?
– Да вот ты видишь, слышишь, ходишь, думаешь, говоришь – значит живешь.
– Мама, что значит: вижу?
– Да вот ты меня видишь?
– Ви-ижу… а слышать?
– А слышать – когда я говорю, и ты знаешь, что я говорю, ты слышишь.
– А думать?
– А думать – когда ты говоришь, ты думаешь.
– Значит, теперь я живу? – медленно спросил мальчик.
– Да, голубчик.
* * *– Мамочка, смотри, какой хорошенький цветок! А вот этот? а этот? Ты их не мни, – просил Еня Воейков, – ты их люби, <береги>. А этот попов-цвет, – оживленно говорил Еня, держа в своем кулачке длинный стебель с отходившими от него ответвлениями, на которых сидели цветы. Гибкие, длинные, белые лепестки, сидевшие вокруг густой желтой шапочки тычинок – лепестки, живописно сгибавшиеся под давлением своей длины, придавая венику полевых цветов красивые кудрявые очертания.
– А это колокольчик. Мамочка, он прежде мне не нравился, а теперь он хорошенький, такой тонкий, тонкий и нежный. Правда, точно задумался? – спросил Еня Воейков. – Да, пожалуй. Да, да, – радостно кивнул головой Еня. – Вот так если смотреть, он совсем точно задумался… Тонкий, тонкий и головку наклонил… И какой голубой! Мамочка, как здесь хорошо!
И он снова сидел рядом с мамой и снова задумчиво-восторженно смотрел, но только в руке у него был красивый веник полевых цветов.
И он шел по лугу и вдыхал в себя аромат прекрасных цветов, и жизнь казалась ему прекрасной. Но жизнь эта, столь прекрасная, была лишь преддверием в особое, вечное, ликующее, беспредельное блаженство, которое наступит там, за гробом. Так просто и красиво. Только бы поскорее пройти этот жизненный путь, только бы поскорей пройти его, единственная цель которого – укрепление немощной природы человека.
Так проходило детство.
* * *А вот тоже на днях он сидел под этим деревом и смотрел, как по песку, то опускаясь, то подымаясь по неровностям песка, пробирался, озабоченно выбирая дорогу, маленький черный муравей. Ене Воейкову как-то казалось, что муравей должен или испугаться, или остановиться и пошевелить испуганно усиками и наконец убежать. Воейков все ждал, что вот-вот маленький черный муравей сделает то или другое. «Вот сейчас… нет, вот сейчас». Но муравей не делал ни того, ни другого: он прямо пробирался среди песчинок, озабоченно перебирая ножками, и не изменял в общем направление, точно всем своим видом желая показать, что он видит Воейкова, но он так озабочен своими делами, что до Воейкова ему нет никакого дела. И тогда Воейкову вдруг открылось, что не только у него, у Воейкова, есть свой внутренний мир, свои желанья, свои стремления, своя, наконец, некоторая живая сила для исполнения этих желаний, стремлений, но что этот свой внутренний мир, свои стремления и желанья есть и у этого маленького черного муравья и даже что муравей живет не только для того, чтобы проползти мимо него, Воейкова, и дать ему себя увидеть, но и сам для себя, для своей собственной жизни, для своих стремлений и желаний, которые даже могут столкнуться с его, Воейкова, стремлениями и желаниями и будут равноправны его, Воейкова, стремлениям.
Иногда можно видеть, как капля прозрачной воды, дрожа и колеблясь, держится на волосистой поверхности и потом вдруг, прорвавшись, разливается по сукну и покрывает собой больший участок. Так и обобщение, добытое относительно этого маленького черного муравья, вдруг, осилив силы трения, радостно разлилось по большой поверхности образов из действительности: все вообще люди, вещи, существа имеют свой собственный внутренний мир, желания, стремления, которые даже могут сталкиваться с его, Воейкова, желаньями и стремлениями.
Но как капля воды теряет в своей чистоте, так и обобщение теряло в своей образности яркость. Да, это было так недавно. А теперь это так понятно и ясно; и Воейков, еще раз пережив то чувство сильной, быстро подступившей к сознанию радости, которое он испытал, когда обобщение разорвало оболочку и разлилось по большой поверхности, подумал: «Ах, какой я был глупенький, как этого можно было не понимать!» Да, он теперь знал, что все эти деревья, листья, бабочки, мотыльки, жучки, этот бледно-желтый Махаон, который сидел на цветке, и, когда под его тяжестью цветок наклонялся головкой к земле, он взмахивал цветными крыльями, и цветок плавно подымался кверху – Махаон, это ореховое дерево – все они живут своей жизнью. Это было ведь так понятно. «Странно, как я не знал этого прежде», – еще раз вернувшись к сделанному обобщению, не мог не усмехнуться Воейков.
* * *А чайки вились и кружились над ним по сложным кривым, как вьется и кружится толпа астероидов, имея одно поступательное движение. И ослепительный белый свет то вспыхивал, то потухал на их белоснежных крыльях. А пароход бежал все дальше и дальше и далеко оставлял за собой и труп тюленя, и стаю вившихся над ним чаек.
На палубе было знойно, не спасали от зноя и растянутые над палубой полотна, трепетавшие от ветра; внизу же было тесно и душно и неудобно. Воейков, изнывая от зноя и стараясь найти хоть где-нибудь прохладный уголок, нагнулся над водой и подставил голову освежающему ветру, с силой дувшему с обеих сторон парохода. Сейчас не хотелось думать ни о чем, а хотелось только уйти всему в чувство этого холодного воздуха, который свистел вдоль поверхности головы. «Пропустите, пожалуйста», – раздалось над ним: матросы волокли полотна. Воейков спустился вниз.
«Кушать готово», – провозгласил служащий. Воейков нерешительно оглянулся на других: вставать ему или нет, садиться за стол или нет. С внутреннего дивана поднялся кто-то в поддевке, с русой бородкой; должно быть, по торговым делам; Воейков тоже стал подыматься. Человек с русой бородкой наклонил голову и набожно перекрестился, потом он выдвинул стул и сел. «Креститься или нет? Оскорблю я религиозное чувство или нет?» – остановившись в неловком положении человека, вставшего, чтобы сесть, но еще не севшего, думал Воейков. Но никто не крестился, кроме первого, и Воейков, тоже не перекрестясь, сел за стол. Украдкой посматривая на других, Воейков взял ложку и стал как можно приличнее пить уху; в ухе очень вкусно плавали желтые шкурки вязиги и кусочки розового мяса, но Воейков ел как можно тише и аккуратнее. Допивать всю тарелку до конца или нет? С одной стороны, вот этот не допил, но с другой стороны – это очень вкусно! Он приостановился и стал, колеблясь, смотреть на ложку.