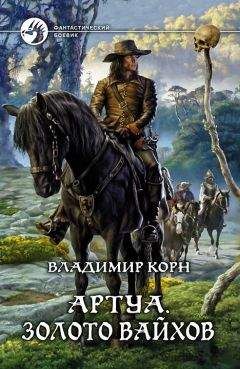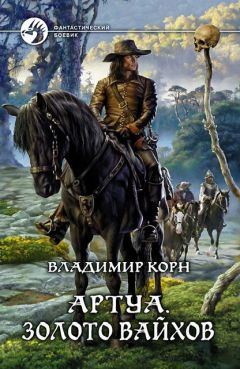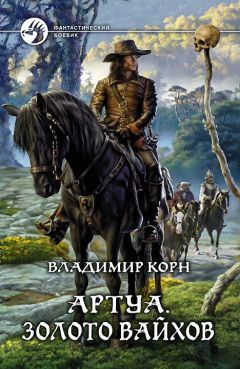Леонид Аронзон - Избранное
1967
" Губ нежнее таитянок "
Губ нежнее таитянок
твои губы молодые,
твоя плоть благоуханна
как сады и как плоды их.
Я стою перед тобою,
как лежал бы на вершине
той горы, где голубое
тихо делается синим.
Что счастливее, чем садом
быть в саду и утром — утром,
и какая это радость
день и вечность перепутать.
1969
" Клянчали платформы: оставайся! "
Рике
Клянчали платформы: оставайся!
Поезда захлёбывались в такте,
и слова, и поручни, и пальцы,
как театр вечером в антракте.
Твоя нежность, словно ты с испуга,
твоя лёгкость, словно ты с балета,
свои плечи, волосы и губы,
ты дарила ликованью лета.
Рассыпались по стеклу дождины,
наливаясь, ночь текла за город,
тени липли, корчась на заборах.
И фонарь, как будто что-то кинул,
узловатый, долгий и невинный,
всё следил в маслящееся море.
1958
" Каким теперь порадуешь парадом, "
Каким теперь порадуешь парадом,
в какую даль потянется стопа,
проговорись, какой ещё утратой
ошеломишь, весёлая судьба,
скажи, каким расподобленьем истин
заполнится мой промысел ночной,
когда уже стоят у букинистов
мои слова, не сказанные мной.
Гони меня свидетеля разлада
реальности и вымыслов легенд,
покорного служителя распада
на мужество и ясный сантимент,
и надели сомнением пророчеств,
гони за славой, отданной другим,
сведи меня с толпою одиночеств
и поделись пророчеством моим.
1960
Зоосад
Я сад люблю, где чёрные деревья
сближеньем веток, дальностью стволов,
меня приемлют и в залог доверья
моё благословляют ремесло.
Но сад другой, уже с другой судьбою
без тишины стволов и воздуха ветвей
меня зовёт своей животной болью
печальный сад, собрание зверей.
Салют вам, звери: птицы и верблюды,
зачем вам бег, паденье и полёт,
когда мой человеческий рассудок,
вам верное спокойствие даёт?
Грызите мясо скучное и бейте
железо вертикальное клетей,
когда на вас внимательные дети
глядят глазами завтрашних людей.
И вы тревожьте их воображенье
тоской степей и холодом высот,
а мозг детей — весёлое броженье —
их в странствия, волнуясь, поведёт,
а город будет гнать автомобили
и замыкать просторы площадей,
и ваши лапы, туловища, крылья
встревожат память дальнюю людей
среди домов, сужающих высоты,
как разумом придуманный балласт,
животные, лишённые свободы,
вы — лучшая символика пространств,
и нас уже зовёт шестое чувство,
как вас гнетёт привычная печаль,
салют вам, звери, мудрое кощунство
нам дарит мира вырванную даль.
1960
" Плафон второго этажа "
Плафон второго этажа
среди подробных сучьев
один — на сад весь — не дрожал:
сад мучился падучей.
Тоску ночных госпиталей
или дворов четвёртых
январь сводил с лица калек,
и кое-где и с мёртвых.
Но тем был явственней разрыв
меж ним и тем, что помнил:
осока, стрёкот стрекозы,
жуки, валежник, полдень,
то ли вдали большой гарем
петлял сосновым бором,
но, может быть, что вместе с тем
в стволах белело взморье.
Но как бы ни было, пейзаж
разрывов, снов и пауз
писался с Вас, но был не Ваш,
но мной с тобою связан.
Здесь было что-то от платформ,
от рухляди и пота,
был взвешен за окном плафон,
своей лишённый плоти.
Стекло делило бытиё,
деля, таило третье —
пустой намек ан, вдруг убьёт?
почти подобный смерти.
Но ты была отделена,
как зеркалом подобье.
Пейзаж окна. Плафон. Стена.
И ты, как сад, подробна.
1960
" Вот человек, идущий на меня, "
Вот человек, идущий на меня,
я делаюсь короче, я меняюсь,
я им задавлен, оглушен, я смят,
я поражен, я просто невменяем,
о, что задумал этот великан,
когда в музеях сумрачных шедевры
обнажены и мерзнут и векам,
как проститутки, взматывают нервы,
а за оградами шевелятся сады,
и портики тяжёлые на спинах
литых гигантов, и кругом следы
изящества и хрипов лошадиных.
как непонятен гений и талант,
живёт он в нас или живёт помимо,
как в яблоке, разбитом пополам,
живут сады, как будто в спячке зимней,
всё знать вокруг и ничего не мочь,
входить творцом и уходить вандалом,
но будь во мне, дурачь меня, морочь
предчувствие великого начала,
и вдруг я вырос, кончился мираж,
гигант шатнулся, выдохся, отхлынул,
остался мир, балдеющий, как пляж,
и всевозможный, как осенний рынок,
теперь иду спокойный человек,
несу свой торс, пальто несу и шляпу,
моя нога вытаптывает снег,
и облака игрушечные виснут.
1960
" Развязки нет, один — конец, "
Развязки нет, один — конец,
а жизнь всё тычется в азы,
мой стих ворочался во мне,
как перекусанный язык.
И плащ срывается в полёт,
и, отражаясь в мостовых,
вся жизнь меж пальцами течёт,
а на ладони бьётся стих.
Да, стих, как выкрикнутый крик,
когда река скользит в дожди,
мой стих — не я, не мой двойник,
не тень, но всё-таки сродни.
Так вот мой стих — не я, рывок
в конец любви, в конец реки,
как слабый звон колоколов
от ветром тронутой руки.
Так отделись, мой стих, как звон,
как эхо, выкатись на крик,
чтоб губы, став подобьем волн,
меня учили говорить.
1961
" Серебряный фонарик, о цветок, "
Бродскому
Серебряный фонарик, о цветок,
запри меня в неслышном переулке
и расколись, серебряный, у ног
на лампочки, на звёздочки, на лунки.
Как колокольчик, вздрагивает мост,
стучат трамваи, и друзья уходят,
я подниму серебряную горсть
и кину вслед их маленькой свободе,
и в комнате оставленной, один,
прочту стихи зеркальному знакомцу
и вновь забьюсь у осени в груди
осколками, отбитыми от солнца.
Так соберём весёлую кудель,
как забывают горечь и обиду,
и сядем на железную ступень,
на города истоптанные плиты,
а фонари неслышные мои
прошелестят ресницами в тумане,
и ночь по переулку прозвенит,
раскачиваясь маленьким трамваем.
Так соберём, друзья мои, кудель,
как запирают праздничные платья,
так расколись на стёклышки в беде,
зеркальный мой сосед и почитатель.
Фонарик мой серебряный, свети,
а родине ещё напишут марши
и поднесут на праздники к столу,
а мне, мой бог, и весело и странно,
как лампочке, подвешенной к столбу.
1962?
Полдень
Mгновенные шары скакалки
я наблюдал из тихой тени.
Передо мной резвились дети,
но в бытие их не вникал я.
Я созерцал, я зрил и только.
День как разломленный на дольки
тяжёлокожий апельсин
прохладой оживлял без сил
сидящих вдоль кустов старух.
Кружился тополиный пух.
Грудь девочки была плоска,
на ней два матовых соска,
как колпачки лепились к коже
хотелось сделаться моложе,
но солнцепёк, покой и розы
склоняли к неподвижным позам,
в квадрате с выжженным песком
копался флегматичный мальчик
и, обратясь ко мне лицом,
в него воткнул свой жирный пальчик.
Таким же отделясь квадратом,
в Сахаре сохнул Авиатор.
Скрипели вдоль аллей протезы
и, незаметно розу срезав,
пока сопливый мир детей
ревел от полноты творенья
я уходил в пробел деревьев
в собранье неподвижных тел.
" По надберегу, по мосту, по "