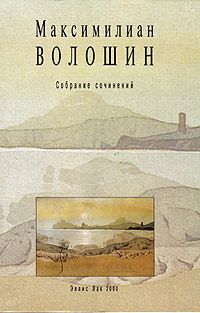Татьяна Шкодина - Голоса надежды
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Как пережить и превозмочь
Досель немыслимое горе?!
Народы поглощает ночь,
Даруя гиблые просторы.
И не уйти. И не смолчать.
У Совести петляя на вые.
Воздела к небу руки мать
И меркнут очи голубые.
* * *
ЗАВИСТНИКИ, точнее — ПОДЛЕЦЫ!
ХРИСТОПРОДАВЦЫ, а короче — ВОРЫ».
подались вы в «НАРОДНЫЕ ОТЦЫ»
Под оком неусыпным
темной
своры.
Виктория КАРЮК
РЕКВИЕМ
Повисла в воздухе незримой тенью боль,
Кричат и рвутся в заточенье мрачном мысли,
Молчат глаза — в их глубине покой,
В них гибель сердца и души не отразится.
Все жаждут лишь трагические роли,
Ища сочувствия и жалости толпы…
Но пьеса сыграна. За занавесом вскоре
Вернутся в амплуа свое шуты.
С улыбки фальшью мне досталась в жизни маек в
В театре судеб человеческих играть:
Должна, как все, я плакать и смеяться,
Под гримом душу изможденную скрывать.
Есть в моей роли слезы и обиды,
Но жизни боль они не искупили.
Я плачу. Только слез моих не видно —
Они в груди холодным мрамором застыли.
Крик мечется по каменной темнице,
Над ним тоска беззвездным небом разлилась.
Нет больше сил… А смертью все простится,
Свобода — та, что я не дождалась.
И я сорву без сожаленья маску
И смою ненавистный грим с лица —
Окончен бал. Но мне совсем не страшно
В последний миг желанного конца.
СНЫ
Я уже не вернусь,
Не приду никогда.
Свежим утром проснусь —
Это буду не я.
И привычная боль
Безответной любви
Не заполнит собой
Мои тусклые дни.
Я везде, я во всем:
Миг в стремительном дне;
За весенним стеклом
Робкий блик на стене.
В горькой памяти след;
Пыльный вздох мостовой;
Нежно–облачный цвет
На заре золотой.
Я везде, я во всем —
Души вечно живут…
Только в сердце твоем
Не нашла я приют.
А когда, жизнь спустя,
Ты полюбишь меня,
Я приду… Нет, постой,
Это буду не я.
И когда, боль спустя,
Ты окликнешь меня,
Отзовусь — или тень
Обернется моя.
Февраль, 96
2.Я верю в небо —
Отдай мне крылья,
И я полечу одна.
В грязном углу
Под мохнатой пылью
Хранишь два моих крыла.
Красавица спит
На Лысой горе
В гробу из черного хрусталя,
Тебя ожидая
В мучительном сне —
Отдай два моих крыла.
Скажи, что душа
Моя солнцем пуста —
Поверю, может быть, лжи.
Скажи, что тебе
Я совсем не нужна —
И я смогу снова жить.
Поверю, пусть это
Твой самообман —
Мне так надоел хрусталь…
Все ждать, что вот–вот
Уплывет туман,
И вместе откроем даль.
Красавица спит
На Лысой горе —
Мне так надоели сны…
Если ты рук
Не протянешь мне —
Сама потушу костры.
Скажи: «Я тебя
Не любил, не люблю», —
Поверю, проснусь. Я, пойми,
Сама не могу
Положить плиту
Над прахом моей любви.
Август, 96
КИРКУ
Я не умела себя казнить,
Болью хрипя, улыбаться,
Камень безверия в сердце носить —
Но каждый способен меняться.
Верить в него и стыдиться себя,
Жизнью такой быть счастливой —
Явью своей избрала я. И шла,
Шла, пока кровь не застыла.
И лишь у самой последней стены
Дверка не сразу открылась,
Может, в насмешку циничной судьбы
Я на мгновенье забылась.
Миг — и осталась закрытою дверь,
Чья‑то рука поддержала.
Пусть без него, но — живу я теперь,
С тем, что почти потеряла.
Сквозь облака синий вышел клочок,
Что‑то в глазах встрепенулось…
Пусть для тебя я — лишь странный намек,
Но боль моя в свет обернулась.
Вера и нежность — спасение мира.
Я даже любви уже не ищу,
Просто быть нужной, пускай не любимой.
Разве я много прошу?..
Может, в насмешку Судьба мне дала
Снова чуть к небу подняться…
Но, жизни услышав лишь раз голоса,
От них не смогу отказаться.
Ты научил меня верить. Лишь Другу
Можно открыть свою боль без оглядки.
Ты дал мне силы… И в жизни — по кругу —
Бусины–люди столкнутся когда‑то.
Ноябрь, 96
Василий ВЯЛЫЙ
ОКНА С НАЛИЧНИКАМИ
Сумерки наступили неожиданно. С запада лениво поползла бордовая лохматая туча. Она закрыла собой заходящее солнце; широкая пурпурная тень плыла по земле. Свежий ветер обдувал Андрею лицо, нежно гладил огрубевшую кожу.
— Бригадир, пора до дому идти, а то гроза в степи застанет, — к лежащему под яблоней Андрею подошли семеро иногородних сезонных работников.
Задремавший казак приоткрыл глаза и поднялся с земли.
— Сколько рядов осталось, мужики?
— Да рядов пять, не больше, — ответил высокий худой работник по имени Степан.
Бригада третью неделю занималась сбором яблок. Сад Лашковского куреня раскинулся на левом берегу Кубани, спокойно и величаво несущей свои Ржавые воды в Азов.
Мужики уже третий день ничего кроме яблок не ели, — обессилевшие, изголодавшиеся, они с трудом таскали тяжелые плетеные корзины. Случались и обмороки. Шел голодный 1929 год.
— Бригадир, совсем силов нема, — перебивая Друг друга, загалдели мужики.
— Может завтра мы съездим на Сенной базар, да продадим кое‑что из тряпья, хоть трохи сальца купим, — Степан вопросительно смотрел на Андрея, дожидаясь ответа. — А то захляли мы совсем.
— Ну что ж, валяйте, — ответил Андрей, покусывая рыжий от махорки ус. «Лишь бы начальство с проверкой не нагрянуло», — мелькнула в голове тревожная мысль.
Под ногами шуршал потемневший от октябрьских дождей ковыль. Осенняя степь пахла по–особому — увяданием и тленом. Андрей брел по узкой тропинке, опустив голову; тяжелые невеселые мысли одолевали буйную головушку. Вот уже две дюжины казацких семей высланы из станицы Пашковской в сухие Ставропольские степи или, — и того хуже, — в Сибирь. Брать с собой разрешалось только то, что можешь унести в руках. На железнодорожной станции стояли теплушки для перевозки скота — в них и отправляли неугодных нынешней власти казаков. Почти каждый день в разных концах станицы раздавалась мужицкая ругань, женские причитания, пронзительный детский плач. Притихшие соседи с опаской выглядывали из‑за плотно задернутых занавесок и суетливо крестились на образа: «Господи, помилуй нас грешных…».
В небе раздался резкий протяжный звук. Андрей, придерживая рукой папаху, взглянул вверх. Свинцовое, от низко нависших туч, небо прочерчивал клин летящих к югу гусей.
«— И вы отсюда тикаете… — с грустью подумал казак. — В чем же вина этих несчастных, сосланных людей? — вспомнил он о репрессированных станичниках. — Может в том, что были потрудолюбивей и расторопнее других казаков? Что спали поАленьше, да горилку пили пореже?! — Андрей со злостью пнул ногой пятнистый мухомор, выросший рядом с тропинкой. Ведь каждой казачьей семье, по распоряжению самого Ленина, на каждого едока выделялся пай земли в один гектар. Паши, обрабатывай, сей, что душе угодно: подсолнечник, кукурузу, арбузы, клубнику — земля Кубанская щедра и плодородна. Кому этого пая мало, брали у атамана землю в аренду. Вырастив урожай, везли продавать на базар излишки. Теперь на заработанные деньги можно купить трактор, сеялку. Все хорошо, но… Но кое‑кто стал смотреть на зажиточных казаков с завистью. Некоторые шептали во след: — Ишь, в суконном костюме о церковь ходит… Да и окна с наличниками… Одним словом — кулак.