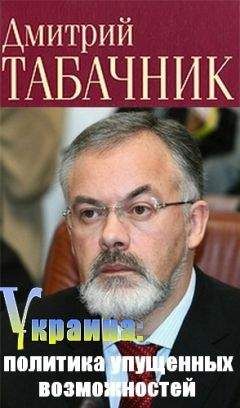Алексей Герман - Что сказал табачник с Табачной улицы. Киносценарии
Сначала он увидел звезды и задохнулся от воздуха и оттого, что еще существуют звезды, потом увидел пожар вдали и не услышал всадника.
Монгол был тоже усталый, пропыленный, в тулупе, схваченном лакированной кожаной кольчугой. Набухшие от бессонных ночей глаза монгола слабо воспринимали мир — здесь, вдали от побоища, проезжая, он просто ткнул мальчика копьем в спину и больше не оборачивался. Мальчик ахнул и свернулся вокруг белого обломка бревна.
Там, под этим бревном, еще оползала, заполняя пустоты, земля, песок и камни. Потом медленно поехала монгольская сотня, замыкающий монгол остановился и, удивленно глядя на уши собственного коня, послушал странный гул из-под земли.
Полтора года назад день в день лицо у Великого Хорезм-шаха Мухаммеда было таким, будто он только что увидел смерть своих городов.
Трон с сиденьем, похожим на огромный золотой поднос, был тесен для него и матери, сидеть, прижавшись к ней, было жарко, сильно болела голова, и векиль прикладывал ему к затылку льдинки, напиленные в форме цветов.
Наибы, эмиры, ханы — все располагались вокруг трона на коленях большим полукольцом, держава была огромна.
И мысль о том, что земли, которые не объехать, не обойти, в его, Хорезмшаха, руке, успокаивала.
— Кадыр-хана возьми себе, — велел Мухаммед и увидел, как от резной стены отделился Пехлеван, палач и «Богатырь мира».
Кадыр-хан стоял, короткая кипчакская сабля в одной руке, кинжал острием на шее на набухшей жиле.
Пехлеван, мимолетно улыбаясь, неторопливо шел к нему, вытянув вперед белые пухлые руки. Сколько людей, не споря, отдавали свою голову этим рукам, не таким уж сильным, как поговаривали.
Кадыр-хан облизнулся и, почти не шевеля губами, вдруг сказал то, что никогда не слышали эти стены:
— Я сейчас отрублю тебе пальцы, Пехлеван, и в гареме тебе будет помогать евнух.
Пехлеван не понял, коротко обернулся к Великому и сделал еще шаг.
Конец сабли Кадыр-хана дернулся, белый пухлый палец плюхнулся на ковер и подскочил, будто живой. Никто даже не вздохнул, струя крови из руки Пехлевана была неправдоподобно упругой.
— Великий, — закричал Кадыр-хан, — ты казнил всех, кто отговаривал тебя идти на священный Багдад, и Аллах дохнул на твое войско морозом. Я истребил не караван, я истребил мунхов, шпионов. Рисунки твоих крепостей, выпасы для коней от реки Онон до Отрара и до великой Бухары, до Ургенча, все найдено в караване. Я стану мучеником Аллаха, ты не скроешь мою смерть от кипчаков и не удержишь их при себе. Так же, как сам великий Искандер не смог бы удержать руками туман. — Воздуха не хватило, и Кадыр-хан стал кашлять и продолжал кричать сквозь кашель: — Нас втрое больше, чем монголов. Возьми меч, верни из ссылки и из Башни Скорби полководцев, прижми Желтоухого к китайским городам, вспори ему подбрюшье в его собственных землях, и твои города узнают покой, а ты славу. Ты искал у одного купца шпионский ясак кагана. — И, на секунду оторвав кинжал от жилы на шее, Кадыр-хан выбросил из рукава пайцу Ялвача.
Золотая пластинка упала на ковер возле отрубленного пальца. Бегущий леопард будто принюхивался к кровоточащему обрубку.
Затылок у Хорезмшаха схватило так, что, кроме красных искр перед глазами, он ничего не видел, и от этого пришла мысль, что Аллах действительно показывает ему его горящие города. Неожиданно он ощутил сильную маленькую руку матери на своем локте и услышал спокойный голос:
— Кадыр-хан царского рода и не мог быть отдан Пехлевану. Это была лишь шутка Великого. Твой гарем, Пехлеван, будет по-прежнему доволен тобой, ведь так близко подходя к моему племяннику, ты рисковал большим. — И в застывшей тишине раздался ее пронзительный ахающий смех.
Под этот смех Пехлеван тронул носком сапога свой одинокий палец. Ему было больно. Но, до тонкости зная свою профессию и ее возможности, он боялся, как никто здесь.
Красные искры перед глазами Великого погасли, медленно возник зал и все, что в нем. И, ощущая покой, будто мальчиком, когда однажды купался в реке и отдался течению, Великий Хорезмшах велел ввести послов кагана.
— Послы кагана, повелителя монголов, — объявил векиль.
Ибн-Кефредеж-Богра и еще двое были мусульмане.
Шах Мухаммед тяжело, не мигая, глядел на них.
Послы скрестили руки, это обозначало, что они хотят говорить, но шах только покачал головой.
— Послы хотят говорить, — сказал векиль.
Шах опять покачал головой. Решение было принято, и нужные слова пришли.
— Они правоверные и служат врагам веры, — и шах ткнул двумя пальцами куда-то в направлении переносицы Ибн-Кефредеж-Богры. — Пехлеван, они твои. У других двух вместо бород пусть будет выжжено изображение этого зверя, — шах напрягся и плюнул в сторону лежащей пайцы. Плевок был удачен и долетел.
— Послов не убивают, ты получишь войну, — крикнул Ибн-Кефредеж-Богра, в черных навыкате его глазах метался ужас.
Но счастливый прощением Пехлеван уже шел к нему. Обмотанная шелковой тряпкой рука болела, вернуть свою улыбку было трудно, но он вернул ее.
На заросшем колючками пустыре у дворца Кадыр-хан и старший отрарский векиль с бородавкой на носу сошли с коней и пошли пешком. От ворот просипела труба, предупреждая домочадцев о возвращении.
Кадыр-хан задержался, подождал и положил руку на плечо Унжу, хотел сказать что-то, но не сказал. Унжу понял, пнул ногой сухой куст.
— Вот здесь я лежал целый день, смотрел на твой дворец, Кадыр-хан, и не любил тебя, — и, выдернув саблю, Унжу рубанул по кусту.
— Ладно, я велю поставить тебе здесь дом. Когда мы стариками будем приезжать сюда, ты будешь вспоминать и рассказывать, твои рассказы надоедят всем, но дети и жены должны будут из вежливости слушать тебя.
Ночью Унжу проснулся и подошел к окну. Ночной туман уходил, но еще закрывал реку, заполняя ямы и неровности, сглаживая землю. Увязая в тумане по колено, вокруг дворца стояли войска, конные и пешие, и луки со стрелами на тетивах лежали поперек голов коней.
Кадыр-хан был уже внизу и, наклонив голову, неподвижный, сцепив на животе толстые пальцы, слушал великого визиря.
— Повелитель полумира, Потрясатель Вселенной, Великий шах Мухаммед шлет тебе, Кадыр-хан, слова милости и привета и саблю, которой только что была снесена голова посла кагана. Ты будешь носить эту саблю вместо своей, всегда зная, когда можно обнажить ее и в присутствии кого. Об этом ты будешь размышлять по пути в Отрар. А чтобы ты не скучал в дороге, Великий назначает соправителем Отрара Карашу из Ургенча, чья мудрость оттенит твою храбрость, — голос великого визиря окреп, он читал нарочно громко, дабы слушали все.
Неторопливо в голубом праздничном халате подошел Караша из Ургенча. Тяжелое лицо с перебитым палицей носом было лицом воина, легкая походка — царедворца, и это не сочеталось.
— Великий не торопит тебя, — сказал визирь, — но знает, что это утро застанет тебя в пути…
Тут же застрекотали седельные барабаны. Визирь и Кадыр-хан встали на колени, негромко уже в ухо что-то раздраженно говорили друг другу. Потом визирь так же раздраженно пожал плечами, двумя руками протянул Кадыр-хану саблю и ушел.
Туман отступил, будто отогнанный этими рокочущими барабанами.
Когда Унжу, босой, спустился вниз, отрарский векиль и домочадцы были уже там. Лицо у Кадыр-хана стекло вниз.
— Великий не спал всю ночь, — сказал он, — Аллах подсказал ему решение. Войска не выйдут из городов, и наши полководцы останутся там, где они находятся. Наши земли обильны, сказал Великий, и каган будет слабеть при осаде каждого города. Смерч, теряя песок, не бывает долгим. Если сначала он способен поднять коня, то потом не способен повредить суслику. — Кадыр-хан потер лоб. — Может, Аллах спасет мой народ, а может, опустит в глубину большого колодца, который зовется «время».
Старший, маленький и суетливый векиль, приподнявшись на цыпочках, приказал собираться и поклялся, что на этот раз палками поторопит нерадивых.
Унжу уходил последним. Неожиданно рокот барабанов там, на пустыре, затих, и Унжу в наступившей тишине услышал шепот Кадыр-хана:
— Однажды на одной большой охоте я метнул копье в один большой шатер. Но Аллах не обратил на меня тогда внимание, — Кадыр-хан вдруг засмеялся.
Ноги Унжу приросли к полу, он слизнул внезапный пот с верхней губы и не двинулся, пока Кадыр-хан с векилем не ушли. Было тоскливо и страшно.
Караша все стоял во дворе, в дом его не позвали.
На рассвете десятник, начальник сторожевого поста кипчаков у перевала Суюндык, выйдя утром из юрты, обомлел. В небе кружили орлы-стервятники, десятник никогда не видел столько орлов сразу. Делая круги на неподвижных крыльях, птицы так четко перемещались в одном направлении, что зловещий смысл этого движения стал ясен десятнику в первую минуту. Пост поднялся, засыпал колодец, поджег юрту и медвежьи шкуры, которые были растянуты для просушки, и наметом пошел через степь. По временам от десятки отделялись конные предупреждать кочевья.