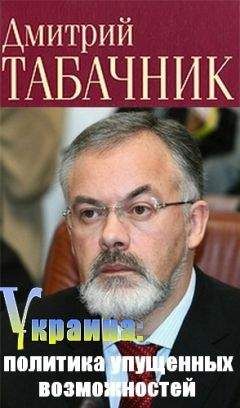Алексей Герман - Что сказал табачник с Табачной улицы. Киносценарии
— «Если быстро открыть дверь, потухнет огонь палочки». Здесь у тебя столько мудрости, Кадыр-хан, что остается только удивляться, куда исчезли страны и народы, породившие этих мудрецов.
— Да, это мысли, мысли. — Кадыр-хан уходит в темную глубину.
Слуга-индус с позолоченными босыми ногами понес за ним светильник с медной сеточкой от копоти.
— Многим из этих мудрецов казалось… После Багдадского похода слово Великого стало меньше значить для мусульман, а этому не время. Ты ведь был в Багдадском походе?
— Да, солдатом, кипчаком из Келин-Тюбе, по твоей милости, Кадыр-хан…
— Как же ты спасся?
— Какая тебе разница, я кое-чему научился у монголов.
— Да, говорят, там, на перевалах, был такой мороз, что мертвые звенели, как румийская глина. Ты там отморозил лицо?
— Да, я маленький камешек в оползне ошибок.
— Врешь. — Огонь светильника бился под решеточкой при каждом слове. — Ты сжег себе лицо уже после похода и давно водишь купцов, пьешь просяную водку и спишь где попало. А сейчас пришел за монгольским караваном, как пес за тигром. Не ходи больше в свой дом.
Прошел худой мальчик, за ним старик, старик был хранителем библиотеки и когда-то хотел взять к себе его, Унжу. А теперь вот мальчик.
— Послушай, — Кадыр-хан говорил негромко, но в галерее голос, изменив тембр, повторился, — в какие сосуды или сундуки следует положить это, если мы захотим поспорить не только со временем, но и с огнем?..
Смысл вопроса доходил медленно и тяжело. Но ответил Унжу, как и требовалось когда-то, легко и беззаботно, будто не надвигалась беда.
— Я думаю, следует заказать глиняные сундуки, как следует обжечь и обложить нашим отрарским кирпичом. Китайский фарфор тоже бывает прочен, но тех людей, которые его делают, почти не осталось… Мне бы хотелось спать дома, Кадыр-хан…
Но Кадыр-хан не ответил…
Ночью Унжу разбудил солдат. Солдат помог одеться и ловко обвязал сапоги и ножны кусками мягкого войлока. Раб-булгар таращил от входа испуганные глаза.
— Днем я куплю тебя, старик, — сказал Унжу, — и отпущу в знак моей новой счастливой жизни.
В зыбком лунном свете беззвучно переступали кони с обвязанными войлоком копытами, и звона оружия, бьющегося о кольчугу, тоже не было.
Подъехал Огул, Унжу похлопал его по сапогам и вздрогнул, увидев у калитки дома Кулан хромого мальчика, ее сына. Глаза у мальчика были странные, широко открытые, и Огул, перегнувшись с лошади, пощелкал пальцами перед его лицом. Мальчик заморгал, дернулся и тихо пошел к дому.
— У Кулан — неудачный мальчик, — сказал Огул, — он ходит во сне и один раз чуть не утонул.
Кони шли тихо, пугая этой неестественной тишиной движения бродячих псов. На площади они постояли. Лишенная красок угрюмая цитадель, казалось, нависала над ними.
Кадыр-хан выехал стремительно, в простом халате, без кольчуги. Конь Хумара, выезжая из ворот, споткнулся, Хумар выругался.
— Не проснулся, как сын Кулан, — сказал Огул. — Эй, Хумар, не упади в фонтан…
И все негромко засмеялись.
Главную улицу проехали быстро. У въезда на Кан-базар от стен отделились тени, невзрачные незнакомые люди забрали коней. Двое из них, в халатах и шлепанцах, пошли вперед. За старой мечетью все остановились.
Под темными высокими стенами сумрак казался особенно густым и пустота особенно осязаемой, но стоило глазу привыкнуть, как пустота ожила.
И Унжу увидел. Там, под стеной, кружком сидели люди и тихо покачивались, потом один встал, быстро пошел к каналу, бродячая собака, взвизгнув, метнулась у него под ногами, человек дошел до канала, хлопнул себя по заду, плюнул и вернулся.
— Монголы замеряют стены, — Огул говорил тихо, но все равно на него цыкнули.
— Ты что, онемел? — Это был голос Кадыр-хана, обращенный к нему, Унжу.
— Им незачем мерить твои стены. — Это были его, Унжу, секунды, за каждую из этих секунд он заплатил тяжелую плату. — В караване едет кто-нибудь из восьмого тумена, он занимается лугами, колодцами, выпасом коней и подсчетом, что в каком городе можно взять. У других сотников хороший глазомер, и они давно знают, сколько арканов надо протянуть от одной башни до другой. А китайцы знают, где лучше поставить машину, чтобы бить стены, и сколько нужно верблюжьих жил для этих машин… Ты нарастил стены, значит, и жил надо больше. И есть сотник, который рассчитал, откуда везти камни и сколько для этого нужно пригнать людей, например, из Келин-Тюбе… Я думаю, что в городе у них уже объявились правоверные, которые получили маленькие деревянные таблички, эти таблички обещают им жизнь за некоторые услуги, Кадыр-хан, да, за некоторые услуги…
— Тебе давно нравятся монголы. — У Кадыр-хана болела голова, и он потер лоб. — Ты поешь мне песню, у которой нет начала и есть только конец, и этот конец в том, что наш город погиб.
— Ты усилил город, Кадыр-хан, и выковырять нас отсюда будет трудно, хотя трудно для монголов обозначает долго — и все. И в этом «долго» наше спасение, потому что в жару в большом войске, осаждающем город, возникают болезни животов, а всадник должен сидеть в седле, а не на корточках. Это единственное, чего они боятся, Кадыр-хан, и что может нас спасти, прости меня. Поэтому я думаю, что они спорят, как провести подкоп, выпустить из каналов воду, потому что без чистой воды…
— На корточках будем сидеть мы, — добавил Огул, и все тихо засмеялись.
Потом Кадыр-хан кивнул, Хумар пронзительно засвистел, и из-за противоположной стороны мечети беззвучно вылетели всадники.
То, что происходило там, у стены, не представляло ни большого труда, ни интереса. Сильно жалили комары.
Начинался рассвет, и к городу, к бахчам, к свалкам летели тысячи птиц. Навстречу им конвойная сотня гнала к городским воротам монголов из каравана, те шли босые; коротконогие их фигуры в бараньих несуразно больших штанах, голые по пояс, белотелые, напоминали рисунки полулюдей-полуживотных. И те, кто гнал, и те, кого гнали, были воины, и те и другие знали, что сейчас произойдет, но монголы ни о чем не просили, даже между собой не переговаривались, старались идти быстро, придерживая руками штаны.
Унжу, сидя на лошади, вглядывался в бледные лица, один из монголов показался знакомым, он окликнул его, но, видимо, обознался или монгол не захотел, да и Унжу не стал настаивать.
Десятник бил Ялвача длинной нагайкой по голым ногам, заставляя бежать. Он подъехал к Кадыр-хану и протянул на ладони тонкую золотую пайцу. Утренний свет еще не давал теней, и леопард на пайце легко бежал, завернув непомерно толстый хвост.
— Он правильно сказал, — десятник счастливо улыбнулся и кивнул на стоящего в стороне Унжу, — эта золотая штучка действительно была в лепешке. Я не хотел бить этого купца, но он сам укусил меня, у него зубы острые, как у хорька.
Острых зубов у Ялвача больше не было. Кислая кровь время от времени заполняла рот, и тогда он осторожно сплевывал ее. Страха не было, Ялвач все ждал, когда ж он придет, страх, и вдруг понял, что в такой тяжелой жизни, в которой никогда не жил так, как хотел, а лишь так, как хотели другие, он никогда по-настоящему не боялся за себя, всегда за кого-то. И так как тех, за кого он боялся, здесь не было, не было и страха.
От этой мысли ему стало легко, и он заплакал.
Продолжая плакать, давясь слезами, Ялвач не удивился, увидев рядом с Кадыр-ханом голубоглазого, угрюмого от ненависти кипчака с сожженным лицом, о котором говорил в Келин-Тюбе с мертвым теперь музыкантом.
— Ты, купец, так боялся всю жизнь, что сейчас у тебя не осталось страха, — Кадыр-хан говорил медленно, и Ялвач удивился, что тот произносит его мысли вслух. — Но пройдет совсем немного времени, и Аллах вернет его тебе в полной мере. Мне рассказывали, что у монголов гонец выучивает донесение и поет его своему кагану как песню, чтобы не переврать слова. Ты выучишь такую песню и хотя будешь немного шепелявить, но споешь кагану, что все, что случилось здесь, — воля Великого Хорезмшаха. А как припев изобрази, как визжали его сотники и бахадуры на бахчах у моего города и какие диковинные тыквы там выросли на грядках. Им были так интересны наши стены, что пусть их мертвые головы подольше таращатся на них с этих грядок. — Голос Кадыр-хана зазвенел, он уже не говорил, орал: — По дороге на площадях наших кипчакских городов ты тоже будешь петь это, купец.
За стеной за воротами ржали лошади, там послышались удары, в небо вдруг взвился отчаянный людской крик. Все-таки они закричали.
Кадыр-хан соскочил с лошади, у входа снял сапоги и, не оборачиваясь, ушел в темную гулкую мечеть.
Сны были легкие. Унжу снилось, как он умеет летать, но никому не говорит, а просто идет по улице и улыбается, а потом вдруг толкнулся ногой, улица рванулась вниз, и хромой мальчик, сын Кулан, сказал: