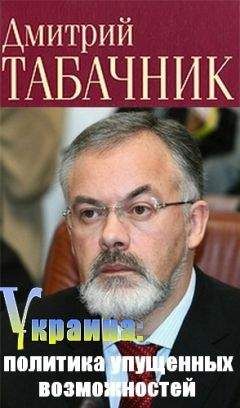Алексей Герман - Что сказал табачник с Табачной улицы. Киносценарии

Обзор книги Алексей Герман - Что сказал табачник с Табачной улицы. Киносценарии
Петр ВАЙЛЬ
Сны о России
Герман — замечательный устный рассказчик. Его интервью — неизменно яркие и живые. Он свободно владеет письменным словом и с полным основанием получил Довлатовскую премию за свои опубликованные короткие истории. Германовские, написанные вместе с женой Светланой Кармалитой, сценарии, при всех очевидных словесных достоинствах, при всей их литературной самоценности, примечательны еще и тем, что позволяют хоть как-то понять природу сочетания полководческого размаха и провизорской скрупулезности, с которой возводится эта громада — германовское кино. Когда при большом масштабе важна всякая запятая на странице и всякая мимолетность на экране. Когда есть право на ошибку, но на небрежность — нет. Как-то на «Ленфильме» я присутствовал при обсуждении снятого накануне эпизода «Что сказал табачник с Табачной улицы». О пяти секундах экранного времени говорили полтора часа, решили, что вон тот мальчишка руки пусть складывает, как складывал, но поднимает сантиметров на пять выше, и отправились переснимать.
Очень хочется разъять чудо, обнаружить механизм воздействия. Затея, пожалуй, безнадежная: во всех формулах успеха, куда традиционно включаются малопонятное вдохновение и более внятные труд и пот, непременно и незримо присутствует иррациональное слагаемое — попросту говоря, тайна. То ощущение, которое возникает с первых кадров германовского кино. Еще «Двадцать дней без войны», еще «Проверка на дорогах» поддаются рациональному осознанию: есть полочка в истории культуры и твоей собственной иерархии ценностей, на которую эти вещи можно поставить. С «Лапшина» начиная — столкновение с чем-то превосходящим твое представление: нет, не о кинематографе, а о возможностях искусства вообще.
Правда, чем больше смотришь, тем больше понимаешь — и я в свое время сделался экспертом по «Хрусталеву» после четвертого, что ли, просмотра. Герман-то безжалостен, ничего не желая объяснять. В «Хрусталеве» есть второстепенный персонаж, журналист, по ходу сюжета теряющий зонтик, который вдруг сам по себе раскрывается, одиноко лежа на снегу. Герман только после уговоров коллег нехотя согласился вставить беглое упоминание о том, что журналист — иностранец, швед: «Да в 53-м автоматические зонтики были только в Швеции, ясно же».
Культура, упорядочивающая хаос, по сути своей репрессивна, так что ее, культуры, потребитель — всегда немного мазохист. Ну а Герман — эстетический деспот, диктату которого ничего не остается, как только подчиниться. Он прав, потому что сильнее.
Первый ли, четвертый раз смотришь, про Лапшина ли, Хрусталева или Румату — неизбежно попадаешь в состояние некоей завороженности, наваждения. Быть может, наваждение — самое подходящее слово для описания феномена Германа. Сновидческая природа кино вря дли когда-нибудь проступала с такой отчаянной и наглядной выразительностью. В эти сновидения погружаешься без остатка. А потом, по отрезвлении, кажется невероятным, что на экране был обычный быт: большая квартира, военная клиника, милиционеры, хоровое пение, провинциальный театр, черные машины на московских улицах, уголовники, полустанок. Никаких фантасмагорий. Откуда же эта полная иллюзия сна, острый ужас кошмара, тяжелое похмельное пробуждение? Искать ответа хочется, хотя: отчего потрясает гроза, чем заколдовывает Брейгель, почему загадочен «Гамлет»?
Всегда есть соблазн сделать скидку на бессознательность художника — дескать, рупор божественного глагола, о чем тут рассуждать. Сценарии убеждают: нет, тайна закладывается изначально. Бог знает, как это происходит. Мы не знаем, отчего и как течет река — но к истокам пробраться можем.
Оттого сценарии, ставшие фильмами, читаются особо: невозможно отделаться от того, что ты все это видел — не как-то там по-своему, а по-германовски, и не иначе.
В «Хрусталеве» только что высвободившийся из лагерной жути герой стоит у реки, глядя на мост, по которому идет поезд. Он, поезд, становится знаком свободы — уже хотя бы потому, что движется. А кто-то сзади говорит: «Астраханский». И почему-то ясно, что это единственно возможное тут слово — «астраханский»: бессмысленное, но необходимое. Так на холсте Малевича штрихи разбросаны произвольно, но попробуй сдвинь. Наитие, интуиция — литераторская? режиссерская? Те сценарии, которые остались в слове — словесность. Чистопородная литература.
В «Гибели Отрара» вот такое — «Все смеются, будто животы у них болели и прошли» — написано, допустим, себе на заметку: сказать актерам, какого рода должен быть смех. Или такое, с тем же прицелом: «Унжу остро хотелось смерти, и, чтобы преодолеть это желание, он улыбнулся». Но зачем бы Герману с Кармалитой писать: «Там гнев, здесь гнев, там раз — и ломают спину два удальца, и лежи в степи под высоким небом, и такая боль, что не слышно, как стынет кровь в жилах и о чем говорит трава». Такое не покажешь. Авторы пишут книгу, это несомненно, только вот поискать авторов со столь обостренным зрением и слухом.
«Он долго лежал на стене, пока не дождался, прыгнул, ударом ноги в шею убил сторожевого нукера и посидел рядом с ним на корточках, пока тот кончался». Лаконичная, емкая, «киплинговская», проза — но и немедленно встающая перед глазами киношная картинка.
«Тогда возникли бы звуки сначала ветра, потом шелест травы или крик муллы, или скрип тяжелого колеса, или посвистывание монгольского мальчика…» Фирменная германовская полифония: нет сомнения, если бы Герман сам и снимал, мы бы все это услышали разом.
В «Гибели Отрара» есть даже самохарактеристика: «Тревога все не проходила, она подсказывала что-то, заставляла вглядываться, трезветь, возвращала глазам зоркость». Такое тревожное воздействие производит кино Германа.
Как-то мы со Светланой и Алексеем заговорили о том, кто бы чем занимался, если б располагал кучей денег. Они выразились поодиночке, но получилось — парно. Герман сказал, что поселился бы на покое, забыл про съемки и неспешно что-нибудь писал. Света твердо произнесла: «Я бы за очень большие деньги наняла Лешечку, чтобы он снимал кино».
В сценарии «Гибель Отрара» — та же, что и в фильмах режиссера Германа, постоянная его тема. Об этом сказано в предисловии к «Отрару»: «История с удивительной последовательностью еще раз доказала нам, что все связанное с тиранией повторяется в таких подробностях, что можно заплакать».
Средняя Азия XIII века, провинция середины 1930-х, военные годы, Москва 53-го, иная планета и Средние века — неважно: мотив и отправная точка едины.
В «Лапшине» Герман провел хирургически безошибочный срез по самой середине 30-х — строго говоря, это время выбрал его отец, Юрий Герман, по мотивам его прозы снят фильм. Но с экрана на зрителя обрушивается поток деталей, картинок и звуков: коммунальный быт, застольные песни («Вставай, пролетарий, за дело свое!»), застольные хохмы (показ «итальянского летчика над Абиссинией»), спектакль об ударной стройке, очкастый пионер из юннатского кружка, словечки («чаю черепушечку») — все это зримое и слышное время. Здесь происходит взаимодополнение: детали создают эпоху, а точно взятый ракурс делает достоверными детали.
35-й — новый строй уже окреп и набрал силу, но еще не начал массово убивать. Предощущение ужаса, которого не избежать, подчинение маленького — большому. То, о чем почти исчерпывающе написал в двух строчках Мандельштам: «И не ограблен я, и не надломлен, а только что всего переогромлен». И то же, и о том же, только другими словами, писали самые талантливые: Пастернак, Заболоцкий, Зощенко, Ильф и Петров, Олеша, Платонов, даже эмигрантка Цветаева. Оттого во сне плачет никому, в том числе и себе, не объяснимыми слезами мужественный Лапшин, что днем слишком слаженно поет с друзьями бравурные песни. Ему не дается любовь, потому что он вычищает землю. Всю Землю. Любовь к человечеству и любовь к человеку — дело разное, и часто прямо противоположное.
Наваждение — то, что происходит на экране в «Лапшине», оно охватывает каждого, кто ощущает историю страны как часть своей биографии. Еще сильнее это чувство в «Хрусталеве» — фильме о генерале-враче, который в феврале-марте 1953 года с вершин благополучия попадает в лагерь, где его насилуют уголовники, потом снова возносится до самых верхов и, наконец, вовсе исчезает в неизвестность. В финале мы видим его через годы полублатным комендантом поезда, когда он на полном ходу, поднимая тяжелые рессоры, удерживает на бритой голове полный стакан портвейна.
Стремительные и страшные броски судьбы, свершающиеся в человечески краткие и исторически ничтожные сроки, — наваждение России XX века. Такой сон увидел Алексей Герман. В марте 53-го мне было три года, но это и мой сон тоже. Сон каждого, кто родился и вырос на этой земле, которую можно любить, но уважать не получается.
Сценарий по мотивам повести Стругацких «Трудно быть богом» — иной лишь по внешней канве: смещение в пространстве и времени, на другую планету, пребывающую в своем темном Средневековье. И — опять знакомое наваждение. На планете находятся наблюдатели-земляне, которые пытаются бережно подправлять ход событий, не нарушая логическое развитие истории. Главный герой — Румата, межпланетный Штирлиц — осознавая свою задачу сохранения нейтралитета, тем не менее не выдерживает, когда на планете захватывает власть «черное братство», свергнувшее господство «серых», тоже отвратительных, но хоть не столь кровавых. Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев, и тем нарушает правила и закономерности, вмешиваясь в чужой исторический процесс.