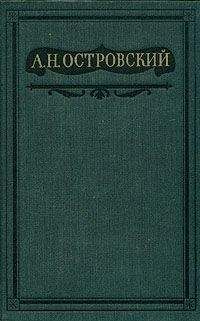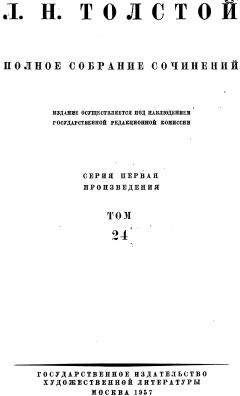Петер Хакс - Смерть Сенеки
С другой стороны, деяния Сенеки стали известны нам благодаря человеку, который считается образцовым историком, если допустить, что предвзятость и небрежность суть непременные качества историографии, — я имею в виду Тацита. Римские землевладельцы занимались писательством на досуге, досуга они имели предостаточно, соответствующим было и писательство. Они боролись с цезаризмом, а в его лице — с классом денежных людей и с классом маленьких людей. Они занимались вопросами свободы, но свободы вполне определенной: поскольку Нерон погубил Сенеку, они занимались смертью Сенеки и делали это во имя писательства и свободы. В результате чего мы располагаем теперь фальшивыми и невразумительными сведениями о жизни последнего. Увы, Сенека был убит своими друзьями, а это привело к тому, что всю славу доставили ему его враги.
2Однако, я считаю, что не все трудности формирования взгляда на Сенеку объясняются тем странным способом, которым дошло до нас его наследие. Даже если устранить искажение исторической перспективы, изображение этого человека расплывается, черты не сливаются в один целостный образ.
Я опишу их все по отдельности. Тогда вместо одного расплывчатого портрета Сенеки мы получим три четких рисунка и решим, что с ними делать дальше. Как политический деятель Сенека занимал пост первого министра, иначе говоря, канцлера империи, что не вызывает у нас никаких возвышенных ассоциаций. Но понятия нашего времени не годятся для эпохи, когда власть имущие сами, не жалея себя, занимались делами правления. Руководство Римской мировой империи отличалось от высшей администрации современных государств: тогдашние правители были непомерно богаты, непомерно респектабельны, непомерно сладострастны, непомерно исполнительны и преисполнены чувством долга. Таким был Сенека. Он управлял вместо императора и спал с его тетками. Он был сказочно богат. Он жил на доходы от ростовщичества. Трудно представить другой народ, который бы больше любил деньги и меньше — работу, чем римляне, а Сенека был римлянин не хуже прочих. Говорят, он брал такие проценты, что вынудил британскую королеву Боадику поднять восстание против Рима. Ни враги, ни друзья не оспаривают достоинств его политики (Впрочем, Нерон был не глупее, и он столь же успешно руководил государством, хотя методы его и были менее бесспорны.)
Философ Сенека является глашатаем некой гуманитарной доктрины, совершенно не принимающей в расчет римскую действительность. Эта доктрина представляет собой совокупность вечных истин и вечных ценностей. Она насквозь пронизана сомнением, сомнением в приемлемости мира, но отнюдь не истин и ценностей. «Берегитесь счастья, — учит Сенека, — чем оно больше, тем оно страшнее. Наслаждаться лучше так, как будто вы играете в наслаждение; тогда и страдать вы будете так, как будто вы играете в страдание. Не копайтесь в собственных переживаниях. Безгрешная совесть — самый надежный предлог, чтобы жить, а стремление к познанию долее всего поддерживает нашу волю к жизни». Так остроумно, и так возвышенно, и так по-домашнему философствовал наш герой. Тут не только нечего возразить, но из этого можно даже извлечь некоторую пользу.
Поэт. Трагедии Сенеки являются образцом искусства периодов упадка. Пытаясь развить достижения греческих классиков, они обнаруживают недостатки, присущие литературному эпигонству: путаницу мотивов и произвольность фабулы, разбухание сюжета и отвращение к форме, нагромождение раздражающих моментов и страсть к эффектам. К образцам, взятым для подражания, добавляется лишь одно: огромная масса скучнейших, неприятных подробностей. Неумеренность в описании болезненных физических ощущений плохо сочетается с добросовестной старательностью Сенеки-политика и строгостью нравов, которую советовал соблюдать Сенека-философ.
3Человек тысячью нитей связан с окружающим миром. Как только он отрывается от него, он становится непостижимым. Мы не поймем своеобразия Сенеки прежде, чем вновь не вернем его в мир. Римская империя была обществом завоевателей. Завоеватели присваивали продукт прибавочного труда на всех захваченных территориях. Взамен империя оказывала завоеванным народам две услуги: обеспечивала мир и управление; в этом смысле она была, разумеется, более нравственной, чем государство Чингисхана, но из-за прискорбного нежелания производить она не была великой в историческом значении. Не имеет смысла представлять Римскую империю как противоречивое единство эксплуататоров и эксплуатируемых.
Ее три класса — землевладельцы, ростовщики и плебс — были тремя отрядами разбойничьей банды, враждовавшими из-за дележа награбленной добычи. О четвертом классе — рабах — мы лучше умолчим, как молчал о них весь античный мир. Мировой дух не предполагал для них иных занятий, кроме каждодневного тяжкого труда и забот о собственной шкуре. Иъх уделом было тысячелетнее ожидание прихода варваров. Марий размышлял о грядущих судьбах человечества не больше, чем Сулла, и все они имели в виду лишь одно — поглотить как можно больший кусок ворованной колбасы. Ни одна из партий не была способна к преобразованию государства, но каждая знала, как его уничтожить. Из этого безудержного влечения к саморастерзанию не было иного выхода, кроме цезаризма, который и закончил войну, по праву названную гражданской. Цезарь сформировал класс мировых судей из самых способных и просвещенных римлян и таких же провинциалов, и этот класс оказался в состоянии осуществлять надзор за дележом поступлений в казну. Даже когда поток трофеев иссяк, именно судьи не допустили распада государства. Республика стала ностальгическим воспоминанием нескольких упрямых и не поддающихся обучению буянов.
Обстоятельства требовали деспотии. Форму деспотии цезаризм заимствовал там, где ее находил: у великих империй Востока.
Как известно, сущность деспотии в том, что она экономически обобществляет то, что не обобществлено как-то иначе. Различие между цезаристской и восточной деспотиями заключалось в том, что восточная деспотия экономически обобществляла свои владения посредством азиатского способа производства, а цезаристская — только путем чистого применения власти. Восточная деспотия восстанавливала, а при благоприятном стечении обстоятельств даже поднимала уровень производства.
Западная деспотия не добилась ничего, кроме поддержания определенного спокойствия в условиях постоянного уменьшения общественного продукта, приходящегося на каждого члена общества. Вот почему цезари, провозглашая себя богами, не были убеждены в этом так искренне, как их коллеги по сану из речных заводей, и вот почему, когда они это утверждали, им никто никогда не верил. Дальше я покажу, что это различие имеет большое значение. Каждый общественный строй имеет свои аналоги; этим и живо историческое искусство. Но ни один общественный строй нельзя полностью приравнять к другому. Поэтому историческое искусство должно быть осторожным. Оно должно выносить несоответствия за скобки (там, где историческая метафора стремится к психологическому обобщению) или экспонировать их как таковые, как непохожести и несравнимости (там, где историческая метафора стремится к психологической частности). Недруги современного социализма обвиняют его в рабовладении, ставят в один ряд с азиатским способом производства, открывают в нем феодальные нравы, описывают его как первоначальное накопление, называют государственным капитализмом и советским империализмом.
Но все эти определения не выдерживают научного рассмотрения. Он таков, каков он есть, и столь же успешно его можно любить и называть социализмом.
Но вернемся к Сенеке. Сенека был монархистом и оставался им, по всей вероятности, до своего смертного часа. Он постоянно пытался проводить различия между справедливым и несправедливым гневом императора; в первом случае, говорил он, император — судья, во втором — необходимость. Никто не поведал нам, как возникло расхождение во мнениях между ним и Нероном. Я тоже не нахожу объяснения, которое отличалось бы от прочих большей достоверностью. Может быть, в один прекрасный день ему подействовал на нервы словарный запас Локусты. Может быть, его вывели из себя неравные условия соревнования в пении между ним и Нероном. Во время этого соревнования он, как большинство умников, упустил из виду, что преимущество-то имел он, так как Нерон обладал только большей властью, а он — большим талантом. Может быть, его начали огорчать политические перестановки, в результате которых Тигеллин сменил Бура и возглавил пожарную охрану и безопасность. Но, скорее всего, для расхождения с Нероном вообще не было никакого особого повода: Сенека просто ощутил приближение старческого бессилия и усталость от сознания горькой истины, что цель освящает посредственность. Во всяком случае, он снисходительно отнесся к притязаниям Нерона на расширение власти, и даже если возникшие разногласия имели принципиальный характер, то это еще ничего не говорит о напряженности в их отношениях.