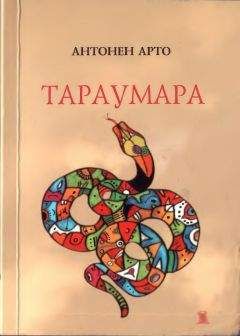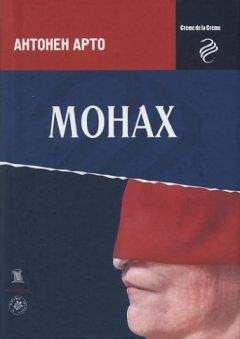Антонен Арто - Театр и его двойник
ему самому, он не может не творить, а значит не может не допускать в самом центре свободно избираемого водоворота добра некоего зернышка зла, которое все более и более сокращается, все более и более исчезает. И театр в смысле постоянного творения, все его магическое действие подчиняется этой необходимости. Пьеса, в которой не было бы этой воли, этой слепой жажды жизни, способной перешагнуть через все, заметной в каждом жесте и каждом действии, отчасти даже превосходящей это действие, – такая пьеса оказалась бы попросту бесполезной и неудачной.
ТРЕТЬЕ ПИСЬМОПариж, 16 ноября 1932 года
г-ну Р. де Р. [4]
Дорогой друг!
Признаюсь Вам, что не могу ни понять, ни принять возражений, выдвинутых против моего заголовка. Мне кажется, что творение, да и сама жизнь определимы лишь посредством некой суровости, а, стало быть, и изначальной жестокости, которая любой ценой ведет все вещи к их неотвратимому концу.
Усилие – это жестокость, существование посредством такого усилия – это жестокость. Выходя из своего покоя и распространяясь во все стороны вплоть до действительного существования, Брахма страдает, это страдание, возможно, и создает гармонические мелодии радости, но в крайней точке кривой оно выражается уже лишь ужасным скрежетом размалывания существ.
В огне жизни, в жажде жизни, в ее безрассудном порыве есть своего рода изначальная злобность: желание Эроса – это жестокость, потому что он сжигает наличные обстоятельства; смерть – это жестокость, воскресение – жестокость, преображение – жестокость, поскольку во всех смыслах и в замкнутом закругленном мире нет места истинной смерти, поскольку восхождение – это раздирание плоти, поскольку замкнутое пространство питается жизнями, а каждая более сильная жизнь перешагивает через остальные, иными словами, пожирает их в смертоубийстве, которое есть преображение и добро. В проявленном мире, говоря метафизически, зло есть постоянный закон, а то, что называется добром, есть усилие и уже представляет собою жестокость, которая накладывается на другую жестокость.
Не понимать этого – значит не понимать метафизических идей. И не нужно после этого являться ко мне, говоря, что мой заголовок ограничен. Именно с жестокостью сплавляются воедино вещи, составляющие план сотворенного. На лицевой стороне, снаружи, всегда добро, но изнанка – это зло. Зло, которое в конце концов окажется сокращенным до минимума, но произойдет это лишь в то высшее мгновение, когда все, что было, замрет на грани возвращения к хаосу.
КОММЕНТАРИИ:
1. Предложение включить в книгу "Театр и его двойник" "Письма о жестокости" и "Письма о языке", частично представляющие собой частную переписку самого Арто, встречается в письме Арто Жану Полану 5 января 1936 года.
2. Адресат письма – Жан Полан (1884-1968), французский писатель. Входил в кружок сюрреалистов. Начиная с 1919 года вместе с Бретоном, Арагоном и Супо издавал журнал "Litterature". С 1925 года руководил "Noupelle Repue Francaise". Возможно, Арто написал ему два письма в один день и забрал первое, чтобы включить его в книгу.
3. Отрывок из письма Жану Полану. Датировка в книге ошибочна. На самом деле письмо было написано 12 сентября 1932 года.
4. Адресат письма – Андре Роллан де Реневиль. Оригинал письма не сохранился в архиве де Реневиля; по всей вероятности, Арто забрал его, чтобы подготовить текст для книги.
ПИСЬМА О ЯЗЫКЕ
Париж, 15 сентября 1931 года
г-ну Б. К. [1]
Сударь!
В своей статье о режиссуре и театре Вы пишете: "Рассматривая режиссуру как самостоятельное искусство, мы рискуем совершить весьма серьезные ошибки", и далее: "Постановка, чисто зрелищная сторона драматического произведения не должны сами по себе бесцеремонно выходить на передний план и определяться вполне независимо от всего остального".
Бы утверждаете к тому же, что все это – основополагающие истины.
Вы тысячу раз правы, что не рассматриваете режиссуру как вспомогательное и служебное искусство, за которым даже те, кто его применяет с максимальной независимостью, отрицают всякую изначальную оригинальность. И до тех пор, пока даже в умах наиболее свободных постановщиков режисура будет оставаться просто неким средством постановки, вспомогательным способом раскрытия произведений, некой зрелищной интермедией, лишенной собственной значимости, она будет заслуживать такого отношения, поскольку ей удастся скрываться за произведениями, которым, как предполагается, она служит. Это будет продолжаться до тех пор, пока главный интерес представленного произведения будет сосредоточен в его тексте, до тех пор, пока в театре, являющем собой искусство представления, литература будет преобладать над представлением, неточно называемом зрелищем, – со всем шлейфом смыслов, которые тянутся за таким обозначением, то есть со всеми оттенками уничижительности, вспомога-тедьности, эфемерности и поверхностности.
А вот что, на мой взгляд, более чем все остальное можно счесть основополагающей истиной: для того чтобы воскреснуть из мертвых или просто для того, чтобы жить, театр, будучи искусством независимым и самостоятельным, должен ясно определить все, что отличает его от текста, от чистого слова, от литературы и всех прочих' письменных и четко обозначенных средств.
Вполне можно продолжать сочинять театр, основанный на превосходстве текста, причем текста все более и более вербального, пространного и невыносимо скучного, текста, которому оказывается подчиненной эстетика сцены.
Однако такое сочинение, состоящее в том, чтобы рассадить персонажей по заданному числу стульев или кресел, поставленных по порядку, и заставить их рассказывать друг другу свои истории, какими бы замечательными эти истории сами по себе ни были, возможно, и не является абсолютным отрицанием театра, который вовсе не нуждается в движении, чтобы стать тем, чем он должен быть, – скорее уж это можно счесть его извращением.
То, что театр стал чем-то по сути психологическим, некой интеллектуальной алхимией чувств, и то, что сущность искусства в сфере драмы в конце концов стада заключаться в некоем идеале молчания и неподвижности, – это на самом деде не что иное, как сценическое извращение идеи сгущения.
Однако такое сгущение игры, используемое наряду с прочими выразительными средствами, скажем, японцами, представляет собой всего лишь одно из средств среди всех прочих. Превращать его на сцене в цель означает вообще не использовать сцену, – как если бы у нас были пирамиды, куда можно было бы поместить мертвое тело фараона, а мы, под тем предлогом, что это тело кладется в нишу, удовольствовались бы такой нишей, обойдясь вообще без пирамид.
Одновременно тут пришлось бы обойтись и без всякой философской или магической системы, для которой ниша – это всего лишь исходная точка, а мертвое тело – условие,
С другой стороны, режиссер, лелеющий свое оформление в ущерб тексту, также ошибается, – хотя, возможно, и в меньшей степени, чем критик, вменяющий ему в вину заботу исключительно о постановке.
Ибо уделяя особое внимание постановке, составляющей для театрального произведения истинно и специфически театральную сторону зрелища, режиссер остается на истинно театральной линии, которая относится к воплощению. Однако и те, и другие играют словами, ибо если само выражение "режиссерская постановка" со временем приобрело такой пренебрежительный оттенок, это связано с нашим европейским понятием о театре, – понятием, которое дает произносимому языку преимущество над всеми другими средствами представления.
Но ведь вовсе не было абсолютно доказано, что язык слов является наилучшим из всех возможных. Я думаю, что на сцене, представляющей собою прежде всего пространство, которое должно быть заполнено, и точку, где нечто происходит, язык слов должен уступить место языку, говорящему посредством знаков, так как объективный характер этих знаков и есть то, что сильнее всего задевает нас непосредственно.
Будучи рассмотрена под таким углом зрения, объективная работа по постановке вновь обретает некое интеллектуальное достоинство, поскольку слова исчезают за жестами и поскольку пластическая и эстетическая сторона театра утрачивает свой характер чисто декоративного посредника, чтобы в подлинном смысле слова сделаться наконец непосредственно коммуникативным языком.
Иначе говоря, если верно, что при постановке пьесы, сочиненной для проговаривания вслух, режиссер впадает в заблуждение, когда чересчур увлекается более или менее искусно представленными элементами оформления, пластической игрой в массовых сценах, сделанными украдкой движениями, – короче, всеми эффектами, воздействующими, так сказать, через кожу и лишь перегружающими текст, он при этом все равно остается намного ближе к конкретной реальности театра, чем тот автор, который вообще мог бы вполне оставаться наедине с книгой, вовсе не обращаясь к сцене, чьи пространственные закономерности, по-видимому, от него попросту ускользают.