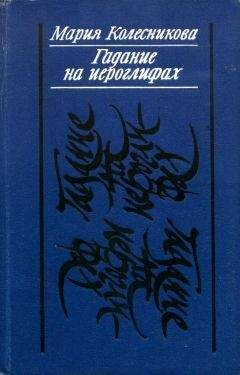Герхард Гауптман - Перед заходом солнца
Клаузен (улыбаясь). Несколько хороших и несколько плохих.
Гейгер. Такие торжества всегда устраиваются больше для гостей, чем для юбиляра… Твоя библиотека очень разрослась, Маттиас.
Клаузен. Наверху, на втором этаже, помещается основная масса книг. Я даже держу библиотекаря. Сейчас он в Арт-Гольдау.[18] Поехал навестить мать; он – швейцарец.
Гейгер (рассматривает большую фотографию). Конная статуя Марка Аврелия…[19]
Клаузен. Да, эта самая прекрасная в мире конная статуя. Она в Риме, на Капитолии.[20] On revient toujours à ses premiers amours.[21] Итак, сядем, дорогой Гейгер.
Гейгер. Бургомистр прав: если не знать, что ты основатель и глава крупного предприятия, действительно можно подумать, что это жилище ученого.
Клаузен. Бывали люди, в которых уживалось и то и другое. Шлиман[22] и Грот[23] были одновременно крупными коммерсантами. Я, к сожалению, этим похвастаться не могу.
Гейгер. О, прошу тебя, Маттиас, не говори так. Твои статьи в журналах составили бы несколько томов… Какая изумительная шахматная доска, Маттиас!
Клаузен. Это подарок моих редакторов. Мне даже было неловко. При иных обстоятельствах это доставило бы мне большую радость.
Гейгер (указывая на шахматную доску с расставленными фигурами). Чудесная старинная вещь. Наверно, персидская. Не правда ли? Поля из перламутра и ляпис-лазури, фигуры из серебра и золота. Настоящие произведения искусства!
Клаузен. Такой вещи, пожалуй, не найдешь во всей Европе. Мои редакторы знали, что я иногда люблю сыграть партию.
Винтер подал шампанское, Клаузен и Гейгер садятся. Винтер наполняет бокалы. Тайный советник поднимает бокал.
Благодарю тебя за то, что приехал.
Гейгер. О, благодарить тут не за что. Все очень удачно сложилось. Я всегда с радостью возвращаюсь на родину… Тем более по такому счастливому поводу.
Винтер подносит Гейгеру спичку. Он закуривает.
Ты все еще не предался этому прекрасному пороку?
Клаузен. Нет. Зато я щедро наделен другими пороками.
Оба некоторое время молчат.
Гейгер. Твоя дочь – жемчужина.
Клаузен. Я привык с тобой соглашаться. Твое слово подобно печати, которую прикладывают к истине.
Гейгер. Беттина тебя боготворит.
Клаузен. Это, пожалуй, верно, но иногда меня это страшит.
Гейгер. Дочери почти всегда преклоняются перед отцами, и я даже позволяю своей дочери, когда это забавляет ее, называть меня Зевсом[24] или Вотаном.[25]
Клаузен. В таких восторгах кроются опасности, известные психологам и которые могут вредить обеим сторонам. А в общем, я действительно многим обязан Беттине и благодарен ей. Она милый и добрый ребенок. Кстати, твоя дочь рассказывает тебе когда-нибудь свои сны?
Гейгер. Нет. У моей Алисы слишком практический ум. В лучшем случае она говорит о гимнастике, гребном спорте и преподавании.
Клаузен. А моя дочь рассказывает мне свои сны, и в этих снах я почти всегда участвую в качестве какого-то высшего существа! Иногда – вместе с покойной женой.
Гейгер. Ну да, ведь Беттина религиозна. Смерть матери сильно повлияла на нее.
Клаузен. Она говорит, что наш брак ни на минуту не прерывался, что мы – я и моя покойная жена – неразрывно связаны даже теперь.
Гейгер. Этим, я думаю, она пыталась смягчить для тебя боль утраты.
Клаузен. Первое время я принимал это и даже находил в этом некоторое утешение. Не то чтобы я был согласен с Беттиной, а просто ее детские вымыслы невольно трогали меня. Но потом вера в мою связь с покойной женой приобрела у нее такие формы, от которых отвернулось все мое здоровое естество. У меня нет склонности к оккультизму.[26] И хотя я не останавливал Беттину, чтобы не оскорблять ее, когда она говорила о моей связи с потусторонним миром, это становилось мне все более неприятно.
Гейгер. Душевная жизнь стареющей девушки, которая к тому же физически неполноценна, распускается иногда странным цветом, но отец может не обращать на это внимания.
Клаузен. Гейгер, ты голос нашей здоровой юности, который так долго молчал во мне. Теперь он снова звучит во мне. Я его слышу! Поэтому твой приезд – дар провидения. Выпьем за нашу юность!
Гейгер. О, отчего же нет? Хотя сейчас тщетно искать на моей голове черный волос, как некогда – седой.
Чокаются и пьют.
Клаузен. Я думаю, что должен тебе поведать о том кризисе, который я пережил в этом пустом доме, в этом, сказал бы я, пустом мире после того, как похоронил жену.
Гейгер. Говорят, тебе было плохо.
Клаузен. Это правда. Утрата жены привела меня в какое-то странное состояние. Врата смерти, через которые она ушла из жизни, казалось, не могли сомкнуться. Мне чудился в этом какой-то скрытый смысл; с другой стороны, нужно сказать… жизнь потеряла для меня всякий смысл. И вдруг я увидел – или подумал, что вижу, – вокруг себя отчужденность, бесполезность и безнадежность. Мои близкие, конечно, делали все, чтобы вернуть меня к бытию, но манящие голоса моих ранее ушедших друзей не умолкали. Почему бы мне не последовать за ними? Эта мысль соблазняла меня. В ней было облегчение, покой и несомненное наслаждение… Право, Гейгер, если бы не мои дети, я, вероятно, решился бы на этот последний путь… Я говорю это не из сентиментальных побуждений. Простая забота о детях, об их существовании, их благе удерживала меня. Я хотел продержаться хотя бы до тех пор, пока их будущность будет обеспечена, насколько только это возможно в пределах человеческого предвидения. В этом – нельзя забывать – была немалая заслуга и моего настойчивого домашнего врача Штейница и доктора Вуттке. Всеми правдами и неправдами они добились того, что я наконец отвратил свой взор от черных дум, к которым постоянно возвращался, и снова стал человеком среди людей!
Гейгер. Итак, ты, слава Богу, выкарабкался!
Клаузен. Я должен ответить на это и да и нет. Я все еще не совсем принадлежу жизни. Иногда я оглядываюсь вокруг, и мне кажется, будто все это меня не касается. К этому присоединяется, – конечно, не сейчас, когда ты здесь, – чувство одиночества и покинутости.
Гейгер. Одиночества? Странная мысль: ведь только что ты был центром всей этой праздничной шумливой суеты.
Клаузен. Ты, милый Гейгер, уничтожаешь мое одиночество, а не праздничная суета. Она проникает ко мне, как сквозь обитую войлоком дверь. Поистине верный друг – это «исцеление жизни», как говорил бесконечно мудрый Иисус Сирах.[27] Но сейчас мне значительно лучше, несмотря па довольно коварные рецидивы. Тогда во мне поднимается отвращение, тогда я вижу лишь крутящийся в пляске смерти сброд, беспощадно и бесконечно гонимый в вихре некоей машиной, и тогда моя рука снова тянется к известной мне двери, ручку которой легко нажать, чтобы молча уйти от жизни. Но довольно психологической метафизики! Поговорим о действительности. Как тебе нравится мой зять?
Гейгер. Бизнесмен с головы до пят.
Клаузен. Так это, значит, бизнесмен? Раньше таких людей называли коммивояжерами. Мне он не нравится. Но я признаю, что для благополучного хода дел он необходим.
Гейгер. У тебя есть разногласия с зятем?
Клаузен. О нет, мы прекрасно ладим. Но я вижу яснее ясного, как прекрасное и высокое дело всей моей жизни в его цепких руках превращается в мерзкое торгашество.
Гейгер. Да, в самом деле, в наше время все чаще ставят своей единственной целью грубую наживу.
Клаузен. Будь последователен и добавь, что такой зять, как Кламрот, перед которым отцы города уже мечут бисер, – счастливое приобретение для меня и моей семьи.
Гейгер. В известной мере! Я не отрицаю.
Клаузен. Можешь ли ты сказать еще что-нибудь в его пользу?
Гейгер. Только спросить: довольна ли Оттилия своим браком?
Клаузен. Как это ни удивительно, довольна. Чувствительная маленькая Оттилия, которая менялась в лице от каждого громкого слова, наша хрупкая фарфоровая куколка, которую нужно было оберегать от малейшего дуновения ветерка, обожает этого неуклюжего молодчика, хотя каждый его шаг и каждое его слово должны были бы ежедневно, ежечасно ее оскорблять. И он еще обманывает ее.
Гейгер. Ничего не поделаешь. Нужно мириться, когда наши дочери отдают себя во власть мужской грубости.
Клаузен. С потерей дочери примириться можно, но, странно, стоит мне хотя бы мельком подумать о моем зяте, как я вижу направленное на меня оружие.
Гейгер. Ты мне не нравишься, дорогой Маттиас! Я согласен, что каждый должен ежедневно, ежечасно защищать место, которое он занимает в жизни. Но как это ты, всеми уважаемый и всеми любимый человек, вообразил, что кто-то из круга твоей семьи направляет на тебя оружие? Я полагаю, ты должен отказаться от этой мысли.
Клаузен. Нет, я не откажусь. Поговорим лучше о чем-нибудь другом. (Кладет руку на стоящую поблизости шахматную доску.) Взгляни на эту шахматную доску, подарок моих редакторов. Меня поразило как электрическим током, когда я увидел ее! Я был так потрясен, что едва мог поблагодарить их. Мне чудился в этом подарке какой-то скрытый смысл: лучшего символа моей деятельности нельзя придумать. Вся моя жизнь была шахматной игрой, я играл с раннего утра до поздней ночи, даже во сне. Вот эти слоны, кони, пешки – произведения искусства; но разве в этом дело? А там фигуры и доску, в сущности, держишь в уме. Самые трудные партии, иногда с полдюжины зараз, приходится разыгрывать мысленно; шахматные фигуры – это живые существа, живые люди.