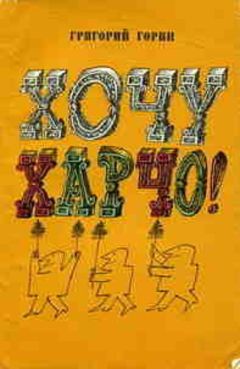Георгий Горин - Формула любви (Повести и пьесы для театра и кино)
Федяшев посмотрел на скульптуру нежным, влюбленным взглядом.
Женщина и вправду была необычайно хороша: изящная фигурка, маленькая головка с тонкими чертами лица, странный всплеск рук: левую женщина как бы предлагала для поцелуя, а правой приглашала куда-то вдаль, в неизвестное…
— Здравствуйте, сударыня! — тихо прошептал Федяшев и поклонился мраморной женщине. — И вновь тоска и серость обыденной жизни привела меня к вашим стопам!.. Впрочем, нет! Будь эта жизнь во сто раз веселей и разнообразней, все равно она была бы лишена смысла, ибо нет в ней вас… А в той незримой дали, где есть вы, нет меня!.. Вот в чем превратность судьбы! И никогда нам не воссоединиться, как несоединим жар моего сердца и холод вашего мрамора…
При сих словах Федяшев приподнялся на цыпочки и припал губами к левой руке скульптуры.
Сзади послышался шум и легкое покашливание.
Федяшев резко обернулся и увидел дворовую девку Фимку с тряпкой и ведром, полным мыльной воды.
— Ты что? Зачем? — ахнул Федяшев.
— Барыня велела помыть, — равнодушно сказала Фимка. — А то, говорит, еще заразу какую подцепите…
— Пошла вон! — закричал Федяшев.
В тот же вечер странная картина предстала перед всеми жителями усадьбы.
По главной дороге медленно и торжественно ехала подвода. Лошадь под уздцы вел кучер, рядом шагал Алексей Федяшев, в самой подводе, приветствуя селян кокетливым взмахом рук, стояла мраморная женщина в древнегреческой тунике…
Эта процессия прошествовала двором, подъехала к подъезду главного дома.
Стоявшие у подъезда Степан и Фимка многозначительно переглянулись, а Степан оценил увиденное латинским изречением:
— Центрум квиа импосибиле ест! («Это достоверно, уже хотя бы потому, что невозможно»).
— Степан! — крикнул Федяшев. — Помоги!
Степан подошел к подводе, кучер взвалил статую ему на спину, и Степан понес ее к подъезду, сгибаясь под тяжестью. Наблюдавшие селяне одобрительно загудели, оценивая главным образом физическую силу Степана:
— Здоровый чертяка!
Степан с трудом поднялся по ступенькам, но тут дверь дома распахнулась, и перед собравшимися появилась разгневанная Федосья Ивановна.
— Куда? Назад! — закричала она на Степана, и тот послушно соскочил со ступенек, едва не уронив каменную барышню.
— Что ж вы меня срамите, сударь? — продолжала Федосья Ивановна, уже обращаясь к племяннику. — Зачем ЭТО домой? Что ж у нас здесь, кладбище, прости Господи?!
— Ma тант! — строго сказал Федяшев, сбиваясь частично на французский язык и тем самым пытаясь сделать непонятной ссору для наблюдавших простолюдинов. — Не будем устраивать эль скандаль при посторонних. Я хочу, чтоб это произведение искусства стояло у меня в кабинете… — И добавил, обращаясь к Степану: — Неси!
Степан стал подниматься по ступенькам.
— Стой! — крикнула тетушка и оттолкнула Степана. — Да как же это можно! Постороннее изваяние — и в дом? Откуда нам знать, с кого ее лепили? Может, эта девица была такого поведения, что и не дай Бог… ее ж при деде вашем ставили, дед был отменный развратник. Старики помнят…
Несколько стариков, стоявших среди дворни, авторитетно закивали и захихикали.
— На Прасковью Тулупову похожая, — сказал один дед. — Была тут одна… куртизаночка…
— И вовсе не Прасковья! — сказал другой старик. — Это Жазель, француженка… Я ее признал… По ноге! Ну-ка, Степан, подтащи поближе…
Степан, кряхтя, поднес статую к деду, тот заглянул в каменное лицо.
— Она! — авторитетно сказал дед. — А может, и не она… Та была брунетка, а это вся белая…
— Замолчите все! — крикнул взволнованный Федяшев. — Не смейте оскорблять своими домыслами сие небесное создание! Она такова, какой ее вижу я! И вам того увидеть не дано! Отдай, Степан!
Федяшев схватил статую и попытался поднять на вытянутых руках, но, не удержав, рухнул на ступеньки, придавленный ее тяжестью…
Очнулся Федяшев на диване, в своем кабинете. Голова его была забинтована. Рядом хлопотала Федосья Ивановна, ставя на столик микстуры и липовый чай.
— Ну как, милый, отходишь?
Федяшев застонал и попытался приподняться:
— Где она? Где?!!
— Да вот же… Господи! Что с ней станется…
Только тут Федяшев увидел, что его обожаемая статуя уже находится в кабинете, в углу. Правда, местами она потрескалась, а правая рука и вовсе отвалилась.
Возле статуи возились Степан и Фимка, прилаживая отлетевшую руку…
— На штырь надо посадить! — сказал Степан. — Глиной замазать. А потом — алебастром… «Ре бена геста» — «Делать так делать»!
— Уйдите! — взмолился Федяшев. — Не мучайте меня! Дворовые смутились.
— Да мы чего, барин… Мы как лучше…
Степан и Фимка робко двинулись к выходу.
— Руку-то оставьте, ироды! — крикнула тетушка. Степан испуганно положил мраморную руку на столик:
— Прощенья просим! Тут гончара надо. Он враз новую слепит.
— И вы, тетушка, ступайте! — попросил Федяшев. — Оставьте нас одних.
— Кого «нас»? — Тетушка перекрестилась. — Совсем ты головой ушибся, Алексис… Скорей бы доктор ехал.
К вечеру из города приехал доктор. Толстенький господин в засалившемся парике и круглых очках. Он был слегка навеселе.
Осмотрел больного, как умел, проверил рефлексы.
— Ну что же-с! — сказал он. — Ребра, слава Господи, повреждений не имеют-с, а голова — предмет темный и исследованию не подлежит. Завязать да лежать!
— Мудро! — закивала Федосья Ивановна, накрывая маленький столик и ставя на нем графинчик. — Отужинать просим чем Бог послал.
— Отужинать можно, — согласился доктор. — Если доктор сыт, так и больному легче… — Он пропустил рюмку и с аппетитом разгрыз зеленки огурец…
Федяшев прикрыл глаза и печально вздохнул.
— Ипохондрией мается, — пояснила тетушка.
— Вижу! — сказал доктор и снова налил рюмку. — Ипохондрия есть жестокое любострастие, которое содержит дух в непрерывном печальном положении… Тут медицина знает разные средства… Вот, к примеру, это… — Он поднял наполненную рюмку.
— Не принимает! — вздохнула тетушка.
— Стало быть, запустили болезнь, — покачал головой доктор и выпил. — Еще есть другой способ: закаливание души путем опускания тела в прорубь…
— Мудро! — одобрила тетушка. — Но только ведь лето сейчас стоит, где ж прорубь взять?
— То-то и оно, — вздохнул доктор. — Тогда остается третий способ — беседа. Слово лечит, разговор мысль отгоняет. Хотите беседовать, сударь? — Доктор насытился и закурил трубку.
— О чем? — усмехнулся Федяшев.
— О чем прикажете… О войне с турками… О превратностях климата… Или, к примеру, о… графе Калиостро.
— О ком?! — Федяшев даже присел на диване.
— Калиостро! — равнодушно сказал доктор. — Известный чародей и магистр тайных сил. Говорят, в Петербурге наделал много шуму… Камни драгоценные растил, будущность предсказывал… А вот еще, говорят, фрейлине Головиной из медальона вывел образ ее покойного мужа, да так, что она его осязала и теперь вроде как на сносях…
— Материализация! — воскликнул Федяшев и, вскочив, нервно стал расхаживать по кабинету. — Это называется «материализация чувственных идей». Я читал об этих таинствах… О Боже!
— Да что ж ты так разволновался, друг мой?! — забеспокоилась тетушка. — Тебе нельзя вставать!
— Тетушка, дорогая! — радостно закричал Федяшев. — Ведь я думал о нем, о Калиостро. Собирался писать в Париж… А он тут, в России…
— Мало сказать, в России, — заметил изрядно захмелевший доктор. — Он в тридцати верстах отсюда. Карета сломалась, а кузнец в бегах. Вот граф и сидит в гостинице, клопов кормит…
— Клопов?! — закричал Федяшев. — Великий человек! Магистр!.. И клопов?!
— Та они ж, сударь, разве разбирают, кто магистр, кто нет, — усмехнулся доктор. — Однако куда вы?
Федяшев не ответил. Стремглав он сбежал по лестнице, выскочил во двор и закричал:
— Степан! Коня!
Изумленная тетушка из окна увидела, как Федяшев верхом проскакал по дороге и скрылся в пелене начавшегося дождя.
— Ну, доктор, вы — волшебник! — ахнула тетушка. — Слово, и ушла ипохондрия…
— Она не ушла. Она где-то здесь еще витает… — вздохнул доктор и снова налил. — Она заразная, стерва… хуже чумы! Он оперся подбородком о кулак и вдруг тоскливо запел:
Из стран Рождения река
По царству Жизни протекает…
…Играет бегом челнока
И в Вечность исчезает! —
закончил куплет романса Маргадон. Он сидел в гостиничном номере, наигрывая на гитаре.
Напротив сидел Жакоб с отрешенным видом, изредка доставая табачок из табакерки и втягивая его поочередно то левой, то правой ноздрей.