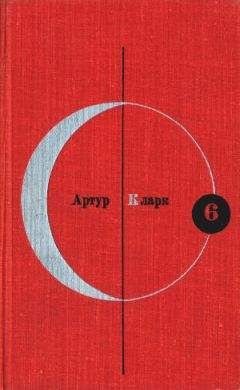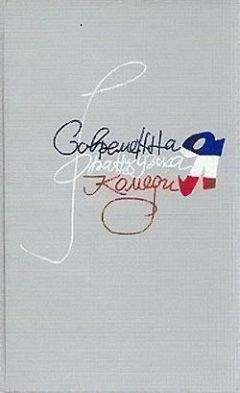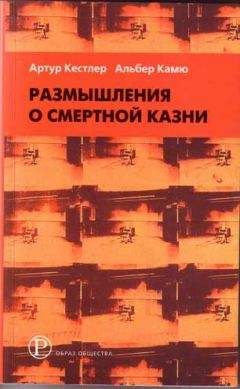Жан Ануй - Птички
Арчибальд. Да-да! Все, что он захочет. Я немедленно разведусь здесь и… женюсь там.
Люси (оскорбленно кричит). Арчибальд! Арчибальд (предельно низок). А тебе будет веселей, если ты останешься вдовой?
Шеф (слушает у двери). Нет, он говорит, что это невозможно. Пока продлится канитель с разводом, ребенок родится незаконнорожденным.
Арчибальд. О боже! Он думает, что он в Палермо?
Мелюзина (визжит). Но ведь это смешно. Малышка может отличным образом сделать себе аборт. Ну-ка, дайте я!
Шеф (кричит в дверь). Что?… (Мелюзине.) Он тебя слышал. Когда здесь кричат, там все слышно. (Слушает, потом оборачивается.) Он принципиально против абортов.
Арчибальд (краснеет). Он? Шеф. Он.
Арчибальд (в негодовании). Это какой-то шиворот-навыворотный мир. Кому и чему можно верить?! А его голубая книжка Роземонды Параплюи? «Как научиться самой делать себе аборты»! Он издал ее стодвадцатитысячным тиражом!
Шеф (в дверь). А как же ваша голубенькая книжка Роземонды Параплюи «Как научиться самой делать себе аборты»? Ведь вы ее издали тиражом в сто двадцать тысяч! (Выслушивает ответ, поворачивается к присутствующим.) Он говорит, что он также издавал двухсоттысячными тиражами кулинарные книги, но что он по ним ни разу даже яйца не приказал сварить. (Отворачивается. Упав духом.) Мда. Это тупик. Тут бы впору Киссенджера звать.
Роза. (молча, не замеченная никем, встает, присаживается на корточки у двери, зовет). Грацциано! Это Роза.
Все оборачиваются от неожиданности, слушают.
(У двери.) Слушай, Грацциано, мы ведь свои люди? А? Давай поговорим. Арчибальд, конечно, скотина. Это мы все знаем. Но я с тобой не о нем, а о Цецилии хочу поговорить. Ведь я девушка. Я-то лучше понимаю, что с ней произошло. Мне ведь совсем недавно было столько же, сколько ей. А когда я поступила так, как она, мне было даже меньше, чем ей. Это был мой инструктор по лыжам. Ему было около сорока лет. У него было такое же усталое выражение лица, как у нашего Арчибальда.
Арчибальд (уязвленный, бросает на себя взгляд в зеркало). Гм. Усталый!
Шеф (поднимаясь, кричит). Ах ты дрянь! Так это тот швейцарский пастух, которого ты притащила к нам в шале. Эта деревенщина! От него за два метра несло потом и кислым молоком, а поверх всего он душился пачулями. Этот кроманьонец в лазоревых брючках! Этот трижды болван!
Роза (обернувшись, кричит агрессивно). Да!
Шеф (садится, подавленно). Черт возьми! Мир еще гаже, чем я о нем думал. А я ведь и так все вижу в черном свете.
Роза (у двери, продолжает). Послушай, Грацциано. Я тоже была совсем маленькая. И если не считать разговорчиков с подружками ну и еще кое-чего, я была и совсем чистой. А ведь это я его спровоцировала… А, брось! Ничего ты в этом не понимаешь! Чувственность меня не мучила. Совсем меня это и не интересовало. В день, когда это произошло, мне было больно. Мне это показалось, скорее, противно. Вот когда он на лыжах шел, я от него балдела. Но только на лыжах. А как мужчина он мне казался старым и противным. Мне просто нужно было как-то найти себя.
Шеф (зло кричит). Ну и как? Нашла?
Роза (ласково, у двери). Ты, Грацциано, не знаешь, что такое девочки. При моей блистательной мамаше-невидимке и моем рассеянном папаше-бабнике мне было так одиноко в доме. У брата и у сестры была. своя жизнь. Конечно, с раннего детства в доме жили няни, но они, скорее, занимались папой. Нужно было распорядиться собой самостоятельно. Вот я и распорядилась.
Шеф (почти робко). Уж не хочешь ли ты сказать, что это ты из-за…
Роза (жестко). Да.
Пауза.
(Продолжает у двери, просто.) Девочки так одиноки. Вот ты Грацциано, разговариваешь когда-нибудь со своей дочерью?… (Слушает, потом улыбается.) Ну, конечно. Ты был так занят. У тебя свое дело. Политическая борьба. А у твоей дочери своя. И у нее ни базы, ни платформы, ни теории. Знаешь, ведь настоящие пролетарии — это дети. Никто никогда не дал себе труда создать теорию, рассматривающую проблему детей. Ни те, кто отделываются от них оплеухами, ни те, кто откупаются карманными деньгами.
Шеф (тянет ее за руку, неожиданно). Кто тебя всему этому научил?
Роза (оборачивается, спокойно, без раздражения). Ты.
Шеф (кричит, будто желая успокоить самого себя). Ну-ну, что ты там чирикаешь? Несчастная! Ни о чем, кроме себя самой и собственного удовольствия, ты же не думаешь.
Роза (смотрит на него, спокойно). Это самое и чирикаю! Просто ты никогда не давал себе труда вслушаться. Ты, папа, такой рассеянный.
Мгновение смотрят друг на друга.
(В запальчивости неожиданно кричит.) Да, я думаю только о себе! Да, я сплю с кем попало! То, что я делаю, сплошное свинство! Сердце у меня величиной с высохший орех и плевать мне на все и на всех вас! Да и на себя тоже! (Отходит, закуривает сигарету и падает в кресло.) Пауза.
Арчибальд (скромно напоминает). А Грацциано? Нельзя оставлять его в одиночестве. Он может рассердиться.
Шеф (неожиданно кричит, всех этим пугая). Плевал я на вашего Грацциано! (Потом неожиданно добавляет.) Если он слушал так же внимательно, как я, он должен был бы уже отложить свою бомбу и начать подбивать бабки.
Артур, слушавший до этого с невозмутимым видом, снимает ноги со стола и тихонько встает, нехорошо улыбаясь.
Артур. Так давай и мы тоже подобьем, дорогой папочка. Случай уникальный.
Шеф (с опаской смотрит на него). А ты что хочешь разыграть? По-твоему, еще мало? Какие разоблачения ты намереваешься сделать?
Артур (продолжая улыбаться). Незначительные, но небезынтересные. Вчера утром я заходил к тебе на чердак. Думал, может быть, там, у тебя на диване зажму наконец эту гретхен. Я прочел твой роман.
Шеф (надменно). Ну и что он, нехорош?
Артур. Один из лучших. Ты явно был в ударе. Но некрасиво это.
Шеф (замкнуто). Такое у меня ремесло. Секс и насилие. Я всегда торгую одним и тем же товаром. И вы этим живете.
Артур (зло). И тебе не стыдно было диктовать все это молодой наивной девушке? Какие мысли ты ей мог внушить? Или именно это и входило в твои намерения, старый сатир?
Шеф (неожиданно мягко). Можно друг друга не понимать. У нас для этого много причин. Но за что ты меня, малыш, ненавидишь?
Артур (замкнуто). Я тебя не ненавижу. И если бы ты не был моим отцом, я считал бы тебя просто потрясающим типом. Но у меня о тебе другое мнение.
Шеф (мягко). У меня тоже. О нас обоих. Жизнь — вещь трудная. Ты это уже понимаешь, а вот доживешь до моих лет…
Артур. Ну, это еще нескоро.
Шеф. Ошибаешься, совсем близко.
Артур (усмехнувшись). А что значит «Птички гадят повсюду»? То есть всю дорогу, до конца?
Шеф (с едва уловимым цинизмом). А что, плохое название?
Артур (неожиданно, с болью). Нет, отличное. Отличное. Но ты и в самом деле нас так видишь? Конечно, мы не ангелы, но все же, что мы тебе сделали?
Шеф (твердо). Ничего. В этом-то я вас и упрекаю.
Артур (зло). Какое — совпадение! И мы тебя в том же самом упрекаем.
Шеф (не без юмора). В итоге получается, что мы друг друга ни в чем не упрекаем, и все к лучшему в этом лучшем из миров. (Неожиданно кричит.) Ты думаешь, легко жить и при этом оставаться чистеньким? Думаешь, паршивец, легко жить и при этом не убивать?
В этот момент на галерее появляется Труда в длинной, до пят, в высшей степени «непарижской» рубашке. Волосы заплетены на ночь в косички. Одновременно трогательная и смешная. В руках держит огромный револьвер.
Труда (кричит). Руки вверх! Все вы убийцы!
Ошеломленные, все поднимают руки.
Кривой (кричит окаменевшему Дюплесси-Морле). Руки, вам говорят!
Дюплесси-Морле (наконец поднимает руки и визжит). Сумасшедший дом! Что здесь все-таки происходит?