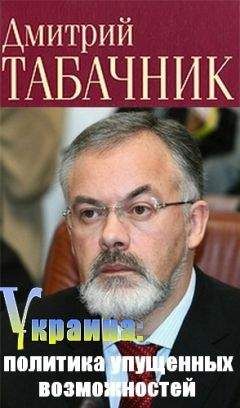Алексей Герман - Что сказал табачник с Табачной улицы. Киносценарии
— История, — сказал человек, — мировой катаклизм… Иди домой, зачем здесь. — Вытер ладонью глаза и спросил: — Что он тебе сказал?
— Слова были неразборчивы, — ответил Глинский. — Сказал — спаси меня, так я думаю, и про Бога, но я не понял…
— Значит, Бог есть, — сказал человек и положил перед Глинским кривую трубку, — на… — Что-то он там протирал под столом скатертью… — Но никогда не говори, пока я не разрешу… И что он сказал, я тебе расскажу тоже… Ступай, тебя отвезут, как твоя фамилия?
— Глинский, — сказал Глинский.
— Это хорошо, — сказал почему-то человек, вынул из-под стола пенсне, его он и протирал, надел и добавил, обращаясь к чему-то внутри себя: — Звезда упала, как лошадь, понимаешь?! Катаклизм! — Глаза под стеклами резко увеличились, будто выкатились из орбит. Выражение лица, впрочем, все лицо резко изменилось, превратясь в знакомый портрет.
— Товарищ маршал, — вдруг крикнул Глинский, вцепившись в стол…
— Пустяки, пустяки, — заорал вдруг Берия и ударил кулаком по столу так, что полетела посуда. — Пустяки! — Он встал, подошел к Глинскому, схватил его за голову и поцеловал. Потом повернулся и вышел, громко крикнув на ходу: — Хрусталев, машину!
За ним метнулся бледный полковник. Через кухню два заплаканных офицера госбезопасности пронесли большую картину, не портрет, нет, темно-зеленый, почти черный лес. Слепая вода и белый козленочек на берегу.
Окно на кухне было открыто, оттуда шел холод.
Огромные черные лакированные машины с моторами танковой силы уезжали по аллее. Одна остановилась и загудела, из нее вышел человек, сел на скамейку и схватился за голову. Пошел крупный мягкий снег.
Шел снег. Глинский стоял под вечереющим небом в своем собственном дворе рядом с черным ЗИСом, который его привез.
Дворник показал рукой, куда идти, и торопливо полез в ЗИС, тщательно отряхивая валенки.
— Айн момент, — крикнул он Глинскому, растопырив пятерню. — Радостно знать.
Во дворе гулял человек с пуделем. Он вдруг привязал пуделя к водосточной трубе, побежал и на ходу запрыгнул в ЗИС. ЗИС рявкнул клаксоном, вертанул на Плотников, напугав прохожих. Было тихо и слышно, как идет снег.
Глинский постоял среди высоких сугробов, аккуратно поставил лопату дворника к стене и пошел вдоль окон «Трудрезервов».
За одним из окон оркестр репетировал «Танец с саблями», работали только барабаны. Барабанщики смотрели в окно, но получалось, что в глаза Глинскому, стук проходил через двойные рамы. Глинский вдруг снял папаху, поднял руку вверх, другую отставил и, зацепляя неровности льда оторванной подметкой, двинулся по двору в этом танце.
Я выносил помойное ведро и шел к помойке своей новой походкой Чарли Чаплина. Чтобы так идти, надо смотреть прямо перед собой. Я увидел отца, только когда повернулся весь целиком.
Он же не видел меня за сугробами. С поднятой вверх рукой отец мелко перебирал ногами. Подметка была оторвана и хлюпала, лицо было бледное, абсолютно спокойное, и на губах болячки. Он остановился, попытался рукой поджать подметку, потом вдруг рванул ее и бросил в сторону. Так и вошел в наш подъезд. Тугая пружина ударила дверью.
Из ведра мне на ноги натекла помойная жижа. Во рту пересохло, ноги подкашивались. Я побежал по двору каким-то кругом, не зная куда, и не зная зачем. Толстый мальчик играл на скрипке, я бросил в него ведро, но оно не долетело до стекла.
Я вбежал в подъезд, прижал дверь спиной, чтобы не хлопнула, и сунулся в коридор.
В коридоре стояли Лева и Дина. Дина курила Леве в открытый рот, а он затягивался этим дымом.
— Они, русские, всегда разберутся, — говорила Дина. — А мы так и будем.
— Оставь здесь все, — говорил голос отца из маминой комнаты.
— Да-да-да-да-да… — говорил голос мамы… — Только Лешины учебники и паспорт.
— Дайте мне кто-нибудь калошу… Эй вы! — крикнул голос отца. — Да принесут тебе все.
— Мы не эйвы… — Из кухни появился Юрий Давидович, рубашка, как всегда, торчала из ширинки. — Может, налить борща, — важно добавил он. — Вы ведь не из Сочи, мне почему-то кажется… Хотелось бы посмотреть вашу справочку, я, знаете, старший по квартире…
Лева отобрал у Дины папиросу и пустил в сторону нашей комнаты кольцо.
— Пошли отсюда, — сказал отец маме.
Мама была в халате и в шубе, с моим портфелем и серебряным соусником. Меня, на счастье, никто не видел.
Я выскочил на лестницу, поднялся наверх, стал на колени, выжал мокрую от помоев брючину, хотел молиться, но ничего не получилось. Слова не шли, только какой-то звук — гы-гы…
Из квартиры никто не выходил. Я сбежал вниз. В коридоре никого не было. Все были на кухне, оттуда шел галдеж, и Дина пиликала там на гармошке.
Я подбежал к телефону, схватил трубку и вдруг увидел у вешалки отца. Я стоял с трубкой, а он в сапоге без подметки. Мы смотрели друг на друга. А на кухне хохотала мама Момбелли и Дина играла «Тумбалатумбалатумбалалайка».
— Не звони, — сказал отец, подошел ко мне и положил трубку на рычаг.
Я обнял его за ногу и стал плакать. А когда поднял голову, увидел, что отец кусает губы и все лицо у него в слезах.
— Черт возьми, — говорил отец, — черт возьми… — И вдруг всплеснул руками, зарыдал, уткнувшись в вытертую до дыр каракулевую шубу Дины.
— Хотите, я вас насмешу, — сказал голос Юрия Давидовича. — Паспорт мадам Глинской в прописке. Ай-я-яй. — Он уткнулся лицом в спину отца и тоже заплакал, схватился за живот и стал ходить взад-вперед. — Ай-я-яй!
Вошел человек в пальто с каракулевым воротником и спросил, брать ли вещи. За ним в коридоре возникла Полина в только что сделанной шестимесячной завивке. Она прижала голову к стене и смотрела на отца.
— Вещи, — сказал Юрий Давидович. — За их вещами на грузовике приезжать надо… С прицепом.
— Привезите пять бутылок коньяка, — сказал отец. — Я вам деньги отдам…
— Да что вы? — обиделся человек и сделал узкие глаза.
Полина захохотала:
— Счас принесу на лимонной корочке. — Взяла с вешалки чью-то авоську, и они пропали.
— Иди, — сказал отец, вытирая лицо. — Я сейчас…
И мы с Юрием Давидовичем пошли.
На кухне все ели борщ с чесноком. За эти два дня мы с мамой не ели супу.
— Спой, мальчик, — сказал Юрий Давидович, усаживаясь, заспанному Момбелли. — Не стесняйся, что ты еврей, постарайся зато стать умным.
Момбелли отложил себе мозговую кость, и они с Диной запели.
За окном кухни шел густой, я такой с тех пор не видел, снег. За снегом угадывался дом, в котором мы жили раньше и куда нам надо было опять идти жить, с колоннами, отражающими свет. По двору ехал черный ЗИС. Жарко горел газ. Отца все не было, его тарелка с борщом остывала.
— У меня изжога, — сказал я и вышел.
Отца не было ни в уборной, ни в нашей комнате, нигде.
— Эй, — кричал я. — Эй!
И выскочил во двор. Наделенный новым правом, я полез через решетку в наш бывший двор, зацепился брючиной и обернулся.
Тр-р-р — длинный дурачок заводил мотоцикл, вокруг прыгала и скулила борзая.
Я вбежал в старую нашу квартиру. Дверь была не заперта. Надька мыла пол в кабинете отца. Она улыбнулась мне такой счастливой улыбкой, сколько уж лет прошло, не забуду. Голова у Надьки была наголо обрита, от этого уши и зубы казались огромными, как у волка.
Мы одновременно услышали треск мотора, удар, крик, собачий визг и поняли, что это сбили отца. Из-за снега видно было плохо, Надька рвала раму, лопалась бумага, мы что-то кричали. Длинный дурак мотоциклист сбил того с пуделем и разбился сам. Медленно собирался народ, и металась борзая. На этом фоне возникает мой голос:
— Больше я никогда не видел отца. Через час объявили о болезни, а через два дня о смерти Сталина. Всем было не до нас. Сначала мы думали, что отца посадили. Но нам объяснили, что это не так. После, когда вышли из тюрьмы врачи и расстреляли маршала Берию, мама согласилась на некролог об отце в газете. Общие слова. После некролога нам вернули квартиру. Но я-то понимаю, что отца убили. От них всего можно было ожидать. Теперь это широко известно. Убили и все. Ах, папа мой, папочка!
Мимо собирающихся под снегом людей, разбитого, врезавшегося в столб мотоцикла, мертвого пуделя и его хозяина проходит Леша Глинский в старом пальто и, ссутулившись, пропадает в полутемном переулке.
Облака неслись, как огромные птицы, и будто прямо на голову Феди Арамышева, когда он вышел за зону. Был он с сидором и в валенках с калошами, — обещали сапоги, да не дали.
У вахты стояли бабы и телеги тоже стояли. Бабы приехали покупать себе мужиков, торги шли незатейливые.
— Я тебе костюм куплю, — говорила одна в красных шароварах. — Бутылка по субботам… Куды ты такой пойдешь, кто тебя ждет.