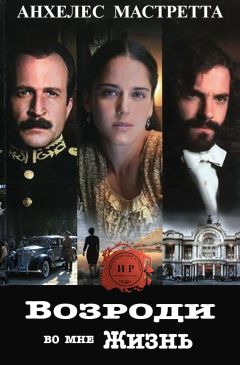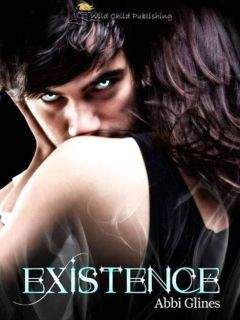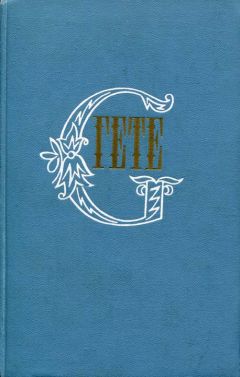Анхелес Мастретта - Возроди во мне жизнь
Я все же не сумасшедшая, мне не нужны чужие дома. Я хочу иметь свой собственный — не такой огромный, как этот; хочу, чтобы мой дом стоял на берегу моря, и я слышала рокот волн; хочу быть в нем хозяйкой, и чтобы никто мне не приказывал, не руководил и не критиковал. У меня будет дом, где я смогу вспоминать о счастливых минутах. О твоем смехе в тот далекий вечер, о наших верховых прогулках, о том дне, когда мы сели в «форд» и на полной скорости помчались в Мехико. Это была наша первая поездка в Мехико. О той ночи, когда ты сказал: «Позволь мне тебя раздеть» и начал медленно снимать с меня одежду, а я смотрела на тебя, пока не осталась совершенно голой. С тех пор я всегда смотрела на тебя с благодарностью.
Я дрожала от холода и еще оттого, что мне стыдно было стоять голой посреди комнаты. А потом ты стал сосать мои губы, подталкивая меня к кровати и шепча: «Как ты прекрасна!», как будто в первый раз меня видел, как будто мы прежде никогда не делили постель. А потом я вывернулась и скользнула под простыни со словами: «Все, Андрес, я спряталась, и ты меня не найдешь!» Тогда ты тоже забрался под простыни и коснулся пальцем моего пупка. «Что ты хранишь в этой пещерке?» — спросил ты, а я ответила: «Это тайна». И мы с тобой всю ночь искали эту тайну — помнишь, Андрес?
А теперь я предвкушаю, как буду спать одна, и мне не придется перелезать через твои ноги и слушать твой храп. Мне стоило бы пойти спать, но я хочу поехать в Сакатлан. Да, я ненавижу это место, где всегда идет дождь, где столько закоулков и буераков, но я хочу видеть, как люди стоят у дверей своих домов, желая посмотреть на тебя мертвого, убедиться, что ты наконец-то умер. Хочу посмотреть на твоих работников, на тех, кто растит твой хлеб и пасет твой скот. Теперь они счастливы, сегодня вечером они будут пить фруктовый ликер и радоваться нашему горю. «Вон идет вдова, — скажут они. — Ишь, повесила нос! Пришла пора платить по счетам. Старый трухлявый гриб, козел, ворюга, убийца». «А ведь он милый», — скажет кто-то. «Совершенный безумец», — ответит донья Рафа, подруга твоей матушки. Ей уже сто двадцать лет, и она сможет посмотреть на тебя лишь из своего инвалидного кресла. «Полный безумец, — скажет она. — Я всегда говорила Эрминии, что ее мальчик не в своем уме».
«Он не безумный, он целеустремленный», — ответит твоя мать. И она права: «целеустремленный» звучит намного лучше. Ты ведь мне тоже понравился именно своей целеустремленностью; что еще могло в тебе привлечь? Ведь ты такой некрасивый. Сейчас я с трудом могу вспомнить тот далекий день, когда мы впервые встретились; если бы мы не встретились, я не пережила бы столько горя и уж конечно не сидела бы теперь здесь в одиночестве, наблюдая восход солнца и дожидаясь твоих похорон, охваченная чудовищной апатией. Но, так или иначе, мне пора одеваться. Как ты думаешь, что мне надеть? Вдовью вуаль? О нет. Порой ты подавал мне просто замечательные идеи. Помнишь, когда я купила красное шелковое платье в том магазинчике в Нью-Йорке? Я не хотела его покупать, но ты выбрал его, и мне понравилось его носить. Хотя вдова в красном будет выглядеть ужасно. Правда, в нем я гораздо лучше перенесла бы весь предстоящий фарс. Родольфо будет со мной любезничать.
Помню, как надела его в прошлом году на День независимости. Уже поздно вечером, после многочисленных тостов под звуки президентского оркестра, Фито потянул меня с собой на балкон. «В этом платье ты похожа на часть нашего флага, просто едва сдерживаюсь, чтобы не закричать «Да здравствует Мексика! Да здравствует независимость! Да здравствует мой кум, такой же прекрасный, как его родина!». Я тут же побежала тебя искать, а он за мной. «Я сказал твоей жене, какая она красивая. Ты же не обижаешься?», — сказал он, словно боялся, что я тебе нажалуюсь. Он так плохо тебя знал, хотя ты и был постоянно рядом, я-то уверена, что ты бы просто посмеялся. Уже поздно, пора переодеваться, ты же не хочешь, чтобы я плохо выглядела на похоронах? Там будут фотографы и Мартин Сьенфуэгос.
В итоге я надела платье из черного джерси и манто из русской чернобурки. Я не смогла найти туфли на низком каблуке. У меня было около девяноста пар обуви, но я не сумела найти среди этого изобилия удобные черные туфли. Ведь я одевалась в черное только на приемы. В конце концов, мне удалось отыскать закрытые туфли, потому что только Чофи могло бы прийти в голову носить пальто с босоножками. Затем я слегка подкрасилась: немного туши на ресницы, чуть-чуть помады на губы — и ничего более. Волосы я свернула в узел на затылке. Андрес сказал бы, что я выгляжу как самая добропорядочная вдова.
Мы выехали в девять. Траурный кортеж составляли около сорока машин. Таков был наш «интимный круг», как выражался генерал. Мне хотелось поехать вместе с Чеко и моим водителем Хуаном. Фито оказался столь любезен, что взял на себя доставку гроба, который они вместе с Мартином Сьенфуэгосом и одним из лидеров профсоюза вынесли из дома и установили на катафалк.
— Мы с тобой поедем в «паккарде», — сказала я Чеко. — Позови Хуана.
Мы сели в «паккард», и Хуан пристроился позади машины Фито, которая следовала прямо за катафалком. Я подумала, что лучше бы он не маячил у меня перед глазами всю дорогу до кладбища.
Мы с Чеко сидели вдвоем на заднем сиденье. Я вытянула вперед ноги и поцеловала мальчика. Нам было хорошо вместе, но тут появился личный секретарь Родольфо и сказал, что президент велел мне пересесть в другую машину.
— Поблагодарите его, мне вполне удобно и здесь, я не хочу оставлять мальчика одного.
Тот ушел, но вскоре вернулся, еще более непреклонный.
— Он требует, чтобы вы пересели вместе с мальчиком.
Мы все еще препирались, когда появился Фито собственной персоной. Секретарь открыл дверцу, и он влез к нам в машину, как к себе домой.
— Прости, Каталина, — сказал он, — я не знал, что ты уже устроилась. Просто я не хочу, чтобы ты ехала одна. Мы, в смысле ты и я, должны вместе ехать следом за катафалком. Ты не должна тащиться за моей машиной, ведь в эту минуту я не более чем член вашей семьи. Сегодня я не президент.
«Если ты не президент, то что от тебя останется, болван?» — хотела спросить я, но лишь улыбнулась с печальной гримасой, словно благодарила его за внимание, но горе не позволило мне выразить это словами.
Я уговорила его сесть в нашу машину. Она была огромной, на заднем сиденье легко умещалось пятеро. Стекло между задним сиденьем и водителем было опущено. Я никогда его не поднимала, мне нравилось болтать с Хуаном и слушать его песни. Родольфо первым делом попытался поднять стекло. Оно двигалось с трудом, поскольку редко использовалось, секретарь Фито приналег на ручку, пока она наконец не начала вращаться, а стекло не поднялось. Мне стало жаль Хуана, он не привык к такой грубости. Чеко тоже это заметил. Он любил Хуана. Столько лет Хуан был ему и за маму, и за папу. Чеко сказал, что хочет сесть на переднее сиденье, чтобы было получше видно. Я не стала спорить и открыла дверцу, он мигом пересел к Хуану и обернулся, чтобы посмотреть на меня. Вот противный мальчишка, оставил меня с Родольфо и его секретарем.
— Скажите Рехино, что увидимся на месте. Вы поедете с ним, — приказал Фито, и мы остались одни. Я закрыла голову руками и глубоко вздохнула. До чего ж меня раздражал сеньор президент!
Машины медленно двинулись вперед, как будто им вовсе не хотелось следовать на Французское кладбище.
— На этой скорости мы и за два дня не приедем, — сказала я Родольфо, когда мы в конце концов выехали из города. Он оглянулся. Веренице машин не было видно края.
— Ты права, — ответил он, опустил стекло и велел Хуану окликнуть водителя катафалка, на котором Андрес совершал свое последнее путешествие.
Думаю, Андрес бы порадовался, что на него смотрит столько народу. Поговорив с Родольфо, водитель катафалка послушно перешел на другую скорость — не столь траурную.
— Так лучше? — спросил Фито, поглаживая мою руку, затянутую в перчатку.
Мы выехали из города, и за окнами машины замелькали безрадостные серые деревушки. Таковы все деревни в предгорьях. У людей здесь мало возможностей разводить сады. Здесь только серая земля и чумазые крестьяне. В некоторых деревушках нас встречали члены партии, стоящие с цветами на обочине. Всё это, конечно же, организовал губернатор. При виде делегаций траурный кортеж останавливался, глава делегации подходил к машине, и мы пожимали друг другу руки. Остальные возлагали цветы на катафалк, держа в руках шляпы.
Мне вдруг страшно захотелось спать. Я начала клевать носом, а глаза сами собой стали слипаться.
— Думаю, тебе стоит устроиться поудобнее и поспать, — сказал Фито.
Вот уж чего мне совсем не хотелось. Мне страшно было подумать о том, что во сне я могу потерять контроль над собой, захрапеть или даже уронить несколько капель слюны. Я боялась даже подумать о подобном унижении. Я предпочла говорить с ним — о нем самом, об Андресе, о детях, о стране, о войне.