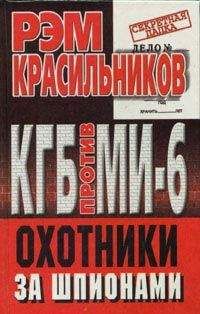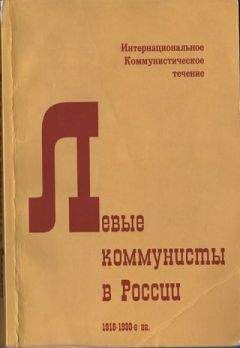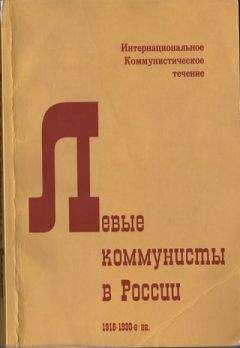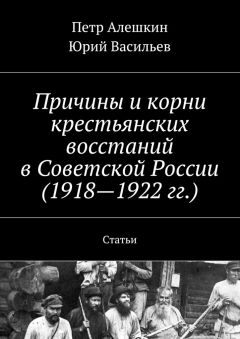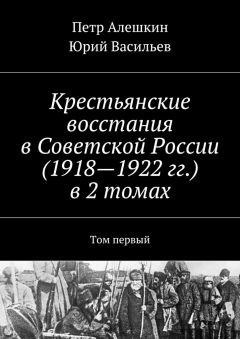Петра Куве - Дело Живаго. Кремль, ЦРУ и битва за запрещенную книгу
Пастернак не мог объяснить, почему остался в живых. «В те ужасные кровавые годы[132] арестовать могли кого угодно, — вспоминал он. — Нас тасовали, как колоду карт». Он жил в страхе: как бы кто-то не поверил, что он каким-то образом участвовал в заговоре, чтобы спасти себя. «Казалось, он боялся[133], что само его выживание могут приписать недостойным попыткам унять власти, пошел на подлый компромисс, предав самого себя, чтобы избежать казни. Он все время возвращался к этому и доходил до абсурда, отрицая, что он способен был к поведению, в котором никто из знавших его не мог его заподозрить», — писал Исайя Берлин. Очевидной логики в действиях властей не было. Илья Эренбург спрашивал: «Почему, например, Сталин[134] пощадил Пастернака, который гнул свою независимую линию, но погубил [журналиста Михаила] Кольцова, который честно выполнял все порученные ему задания?» Вокруг Пастернака исчезали люди; об их судьбе догадывались, но точно не знали — Пильняк, Бабель, Тициан Табидзе, грузинский друг, чьи стихи переводил Пастернак. Во время погромного собрания Союза писателей Грузии покончил с собой еще один друг, Паоло Яшвили. Он застрелился, не дожидаясь, пока его арестуют.
Единственной радостью в то время стало для Пастернака рождение сына Леонида. Рождение было отмечено в «Вечерней Москве»: «Первый ребенок, родившийся в 1938 г., — сын З. Н. Пастернак. Он родился в 00:00 1 января».
Осипа Мандельштама арестовали позже в том же году, по словам Пастернака, «он погиб в их пламени»[135]. Он умер от голода в лагере на Дальнем Востоке в декабре 1938 года. «Здоровье мое очень слабое[136]. Я источен до крайности, исхудал почти до неузнаваемости», — писал он брату в последнем письме. Мандельштам просил брата прислать еду и одежду, потому что «мне ужасно холодно без [теплых] вещей». В 1939 году его жена узнала о его судьбе, когда денежный перевод, посланный ею Мандельштаму, вернулся из-за «смерти адресата».
«Единственным человеком[137], посетившим меня… был Пастернак, — писала Н. Я. Мандельштам. — Он прибежал ко мне, узнав о смерти О. М. Кроме него, никто не решился зайти».
Глава 3. «Я назначил вам встречу со мною в романе»
Пастернак начал писать «Доктора Живаго» на бумаге с водяными знаками из письменного стола мертвеца. Бумагу подарила ему вдова Тициана Табидзе, грузинского поэта, арестованного, замученного и казненного в 1937 году. Пастернак ощущал вес этих пустых страниц, когда писал вдове Табидзе, Нине, что он надеется: его проза будет достойной бумаги[138] ее мужа. Пастернак приехал в Грузию в октябре 1945 года на годовщину смерти грузинского поэта Николоза Бараташвили, чьи стихи он переводил. Он поставил условием, чтобы 25 процентов от аванса за его переводы выплатили Нине Табидзе.
Почти всю жизнь Пастернак помогал заключенным или тем, кто вынужден был жить в нищете. Среди его бумаг сохранилось множество квитанций[139] за денежные переводы, которые он рассылал по всему Советскому Союзу, в том числе в лагеря. Нина Табидзе восемь лет не появлялась на публике. В Тбилиси она жила практически в изоляции, хотя раньше там очень любили ее мужа. Нина долго пребывала в неведении о судьбе Тициана, которого арестовали по сфабрикованному обвинению в измене; до смерти Сталина она не знала о том, что ее мужа казнили. Хотя в душе Нины Табидзе теплилась искра надежды, хотя она считала, что ее муж жив, но его отправили в какой-нибудь дальний лагерь, Пастернак, как он позже признавался, не верил в то, что грузинский поэт жив: «Он был слишком велик[140], слишком исключителен, он заливал светом все вокруг себя, он не мог быть незаметным — ибо признаки существования не просачивались сквозь тюремные решетки». Приехав в Тбилиси, Пастернак сказал, что примет участие в торжествах только в том случае, если пригласят и Нину Табидзе. На приемах он неизменно усаживал ее рядом с собой. Когда в Театре имени Шота Руставели его попросили прочесть что-нибудь из переводов Бараташвили, он обернулся к Нине Табидзе[141] и спросил, хочет ли она, чтобы он читал. Он недвусмысленно давал понять остальным, что поддерживает парию. Нина Табидзе ответила на рискованное выражение преданности ценным подарком: узнав, что Пастернак хочет написать роман, она подарила ему писчую бумагу.
Хотя все знали Пастернака в основном как поэта, он писал и прозу. Несколько его рассказов были приняты весьма благосклонно, как и длинное автобиографическое эссе и наброски романа. Мысли и герои из этих набросков, только более развитые, в конце концов окажутся на страницах «Доктора Живаго», как будто Пастернак совершал к своему роману путешествие длиною в жизнь. Не один десяток лет ему казалось, что ему только предстоит создать нечто великое и смелое; он постепенно начал верить, что такое достижение возможно лишь в прозе — «что это может быть, настоящая проза[142], какое волшебное искусство — граничащее с алхимией!» Пастернак также полагал, что «главные литературные произведения существуют[143] только в содружестве с большим кругом читателей». Еще в 1917 г. Пастернак написал в одном стихотворении:
Я скажу до свиданья стихам, моя мания[144],
Я назначил вам встречу со мною в романе.
Он говорил Цветаевой[145], что хочет написать роман «с любовью и героиней — как Бальзак». Однако первый опыт был сочтен «умозрительным, скучным и тенденциозно добродетельным»[146]. Роман был заброшен. Некоторые свои мечты и желания Пастернак передал главному герою, Юрию Живаго: «Он еще с гимназических лет мечтал о прозе[147], о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидать и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине».
Вторая мировая война усилила желание Пастернака написать выдающееся произведение. Его друг, драматург Александр Гладков, говорил, что «его обычное чувство острой неудовлетворенности собой[148] вылилось в мысль, что он делает слишком мало по сравнению с громадными усилиями страны в целом». В октябре 1941 года, когда фашисты подошли к Москве, Пастернака вместе с другими писателями эвакуировали в Чистополь, небольшой городок с населением в 25 тысяч человек. В эвакуации он почти два года кормился жидкими щами, черным хлебом и читками в столовой Литфонда. То было жалкое, холодное существование.
В 1943 году Пастернак побывал на фронте в районе Орла и читал стихи раненым. Генерал Александр Горбатов пригласил[149] группу писателей на «скромный обед». Гостей угощали картошкой и окороком; налили по стопке водки на человека. Потом пили чай. Во время обеда произносили речи. В отличие от некоторых коллег, которые держались скучно и нагоняли сон, Пастернак произнес звонкую патриотическую речь, насыщенную юмором и поэтическими штрихами. Офицеры слушали его в полном молчании, бледные и растроганные. Поездка на фронт вдохновила Пастернака на написание военных стихов и двух рассказов; виденные им разрушения появятся в эпилоге к «Доктору Живаго».
Однако Пастернак никогда не был среди тех писателей, чьи стихи, как, например, стихи Константина Симонова, переписывались и читались миллионами, крепили обороноспособность страны. «Я читаю Симонова[150]. Хочу понять природу его успеха», — говорил Пастернак. Он задумал роман в стихах и заключил контракт с театрами на написание пьесы, но из его устремлений так ничего и не вышло. Пастернак жаловался, что живет «с постоянным грызущим чувством[151] того, что он самозванец», потому что ему казалось, что его «оценивают выше, чем я сделал на самом деле». Его стихи печатались в газетах, в 1943 и 1945 годах вышли маленькие сборники. Пастернак по-прежнему зарабатывал на жизнь переводами. «Шекспир, чистопольский старик[152], кормит меня, как раньше».
В 1944 году Пастернак получил своеобразное поощрение, призывающее его стремиться дальше и выше. В 1944 году в Москву из Ташкента, где она жила в эвакуации, приехала Анна Ахматова. Она привезла Пастернаку старое письмо от Мандельштама, написанное за два года до его гибели. Нашла письмо Н. Я. Мандельштам, вдова Осипа Эмильевича. Мандельштам, который когда-то предупреждал[153] Пастернака, что переводы заглушат его оригинальные творения, писал: «Я хочу, чтобы ваша поэзия[154], которой мы все избалованы и незаслуженно одарены, шагнула дальше в мир, к народу, к детям. Позвольте мне сказать вам хотя бы раз в жизни: спасибо за все и за то, что это «все», однако, «еще не все». Для Пастернака это письмо, пусть даже оно относилось к стихам, стало горьким напоминанием, что ему еще есть к чему стремиться.