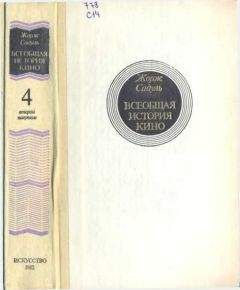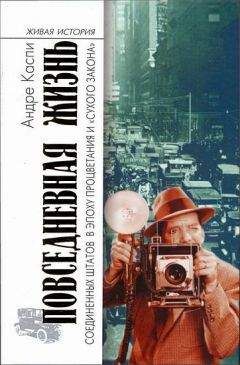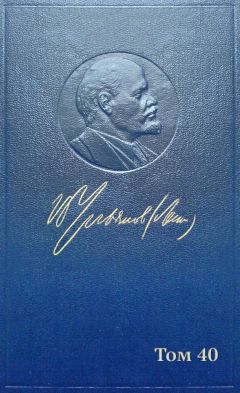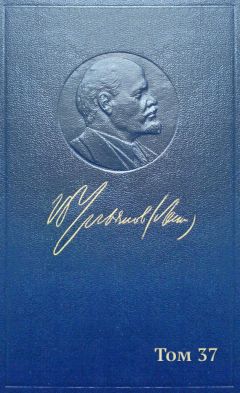Нина Дмитриева - Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества
У Ван Гога поле, небо и сеятель созданы из общей материи, пронизаны едиными токами: почва сама как бы движется в ритме шагов сеятеля, а рябь облаков уподоблена рассыпающимся из его руки семенам. Копируя «Дровосека» Милле,
Ван Гог умышленно или невольно сообщал ему какую-то родственность деревьям, узловатым корням. «Космичность» мироощущения художника сказывалась и здесь.
Он делал также повторения своих собственных ранних работ. Написал маслом горюющего старика — с той самой литографии 1882 года, которая понравилась типографским рабочим в Гааге. Если сравнить этот ранний рисунок с картиной 1890 года, то на поверхностный взгляд может показаться, что разница невелика — художник только перевел графику в живопись. Но это не так: самый подход к изображению радикально изменился. Ранний рисунок имеет все признаки натурной штудии — старательной, хотя уже достаточно уверенной, не ученической. Старательно отработаны и оттушеваны планы, проложены тени, соблюдены пропорции. В поздней картине устранено все напоминающее об этюде с натуры, переданы душа и суть. Акцент сделан на волнистом контуре, обрисовывающем эту бедную, сжавшуюся в комок фигуру: по ней как бы проходит дрожь, она скована и трепещет. Тут выражена пластически сама идея заброшенности, одиночества. С точки зрения анатомии старик на раннем рисунке изображен гораздо более «правильно», чем на картине: на картине кисти рук у него маловаты, нарушены пропорции торса по отношению к ногам, плечо как будто бы не на месте, — но эти неправильности и создают экспрессию.
Мы имеем возможность сопоставить одну из «копий» Ван Гога с оригиналом. «Прогулка заключенных» Московского музея изобразительных искусств написана с деревянной гравюры Густава Доре (из серии Доре «Лондон»). Общая композиция почти не изменена, кроме незначительных частностей. Тем не менее картина кажется типичной для Ван Гога — его картиной, притом гораздо более выразительной, мощной, чем оригинал Доре. Зловещий зеленый тон сырости, заплесневелого камня, мрачно сгущающийся книзу, синева теней на полу и желтые отсветы вверху каменного колодца — такую гамму мог создать только Ван Гог. Но дело не только в колорите. Большие различия есть в манере рисунка. У Доре чувствуется некоторая однообразная заглаженность — в скучной геометрической одинаковости кирпичей стены, плит пола да и в трактовке фигур, идущих по кругу. У Ван Гога — нервная, вибрирующая фактурность, волнистость и узловатость контуров, наполняющие картину особой патетической напряженностью. Заметим, как изменил он рисунок пола, сделав плиты разной величины и сообщив разнонаправленность их перспективно сокращающимся линиям, тогда как у Доре они вычерчены словно по линейке. А фигуры? Какими-то едва уловимыми сдвигами в рисунке, в пропорциях Ван Гог сделал их трагическими, в то время как у Доре это все-таки только «типаж».
Сильнее других изменена фигура на первом плане — та, что ближе всех к зрителю и больше всех привлекает внимание. У Ван Гога это рыжеватый человек.
бредущий, повесив руки, волочащимся шагом. Присматриваясь к его лицу, можно с уверенностью сказать, что Ван Гог придал ему свои черты: это его зашифрованный автопортрет. Это он сам брошен в глубокий колодец, обречен на отрезанность от мира, на одиночество среди других заключенных. Ван Гог нигде в письмах не упоминал об автопортретности этого персонажа, но она очевидна. Вспоминается фраза, которой художник обмолвился несколькими месяцами позже: «Я, как видите, стараюсь сохранить хорошее настроение, но моя жизнь подточена в самом корне, и бреду я неверными шагами».
До самой смерти продолжалась борьба врожденного оптимизма Ван Гога с проклятием судьбы, тяготевшей над ним; только теперь, в заточении, последнее стало
пересиливать, хотя и здесь он сохранял мужество. Странно: в Сен-Реми он порой писал вещи удивительно светлые. На редкость мягки и гармоничны «Ветка цветущего миндаля», «Ирисы», «Белые розы». Об этих картинах Дж. Ревалд пишет, что они «самое радостное из всего, что когда-либо написал Ван Гог. Краски их тонки, даже когда они контрастны, выполнение быстрое, без колебаний и мук, композиция совершенна».
Но если мы захотим увидеть, кто писал эти нежные розы и грациозные ирисы, мы увидим автопортрет, сделанный примерно в то же время или несколько раньше, Он написан в зеленовато-серых тонах, напоминающих о «Прогулке заключенных». Фон покрыт сплошь густыми, тяжко клубящимися волнообразными извивами, и на этом фоне, мглистом и вязком, — хмурое, испитое лицо человека с затуманенным взглядом, человека загнанного и словно бы онемевшего.
Даже ощущение собственной «конченности», подчеркнутое в автопортрете (на самом деле Ван Гог тогда не выглядел так плохо, по свидетельству Иоганны Ван Гог, жены Тео), не мешало ему видеть и всем сердцем чувствовать красоту мира — ослепительность осени, сияние весны.
Что бы ни было с ним самим — весна возвращается, рождаются дети и Сеятель выходит сеять.
Между тем, пока Ван Гог сосредоточенно работал в своем полудобровольном заточении, его имя, как бы отделившись от его личности, начинало приобретать некоторую известность. Бельгийское объединение художников «Группа двадцати» пригласило Ван Гога участвовать на большой выставке в Брюсселе. Он отослал туда несколько полотен, и одно из них, «Красный виноградник», впервые нашло покупателя: оно было приобретено художницей Анной Бош за 400 франков. Затем десять его картин появились на выставке Независимых в Париже, и Гоген писал по этому поводу Винсенту: «Многие художники считают твои работы самым выдающимся явлением на всей выставке». Папаша Танги стал широко показывать вещи Ван Гога в своем магазине. И, наконец, Альбер Орье, молодой литератор-символист, написал статью о Ван Гоге, помещенную в январе 1890 года в журнале «Меркюр де Франс».
Эти вести с «Большой земли» будоражили художника, хотя радовали его меньше, чем можно было ожидать. Призрак славы скорее отпугивал, чем манил. Теперь стало очевидно, как мало значила для Ван Гога известность сама по себе: не ради нее он работал.
Статья Орье была написана в восторженном тоне, и многое было верно почувствовано автором, но все же Ван Гог не узнавал себя в этом весьма эффектном портрете, изображавшем художника-символиста. Ван Гог себя таковым не считал.
Орье писал о нем: «Он несомненно прекрасно понимает свойства материальной реальности, ее значение и красоту, но наряду с этим и в большинстве случаев он считает эту упоительную материю лишь неким чудодейственным языком, предназначенным для выражения Идеи».
Ван Гог находил, что это скорее может относиться к Гогену, чем к нему. «Поверь я Орье, — писал он Тео, — его статья побудила бы меня рискнуть выйти за пределы реального и попробовать изобразить красками нечто вроде музыки в цвете, как на некоторых картинах Монтичелли. Но я так дорожу правдой и поисками правды, что мне, в конце концов, легче быть сапожником, чем музицировать с помощью цвета».
Ту же мысль он с большой деликатностью и тактом выразил в письме к самому Орье. Ван Гог благодарил Орье за статью, но и возражал ему, указывая на других художников, которые, по мнению Ван Гога, больше заслуживают похвал, чем он: Монтичелли, Гоген и даже второстепенные живописцы цветов — Квост и Жаннен. «Уверяю Вас, роль, которую играл или буду играть я, всегда останется второстепенной». Он горячо заступался за Мейсонье, о котором Орье мимоходом отозвался очень нелестно, и подчеркивал, что не видит смысла в «настойчивом делении на секты», в противопоставлении импрессионизма предшествующему искусству.
Через месяц, оправившись после тягостного припадка, он написал Тео: «Пожалуйста, попроси г-на Орье не писать больше статей о моих картинах. Главным образом внуши ему, что он заблуждается на мой счет, что я, право, слишком потрясен своим несчастьем и гласность для меня невыносима. Работа над картинами развлекает меня, но, когда я слышу разговоры о них, меня это огорчает сильнее, чем он может вообразить».
Тем не менее он в благодарность подарил Орье один из лучших своих этюдов, с изображением кипарисов.
Статья Орье не прошла незамеченной: она вызвала много толков, возбудила интерес и к ее автору — молодому начинающему литератору — и к художнику. Начиная с этого момента кривая творческой судьбы Ван Гога, казалось, дрогнула, переломилась и медленно двинулась в высоту. Но произошло это тогда, когда кривая его личной судьбы, его жизни, шла на спад и ему уже не хватало воли к сопротивлению.
Внешне все складывалось благоприятно. Начав сильно тяготиться положением добровольного узника, Винсент решил покинуть Сен-Реми. Тео, по совету Писсарро,
списался с доктором Гаше, другом многих художников (в том числе Писсарро и Сезанна), жившим в маленьком городке Овере на севере Франции. Было решено, что Винсент поселится в Овере по соседству с Гаше. В мае 1890 года Винсент распрощался с убежищем, где прожил ровно год, причем врач написал в его истории болезни: «Излечен». Правда, такой уверенности вовсе не было у самого Ван Гога, но, как бы то ни было, последние пять месяцев его жизни он оставался здоров — припадки не возобновлялись, а физически он был крепче, чем когда-либо, благодаря воздержанной и размеренной жизни в лечебнице.