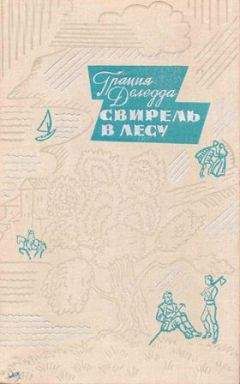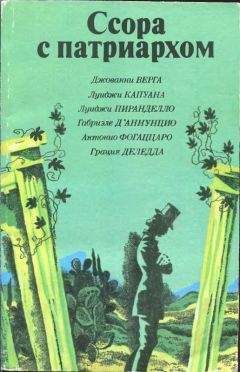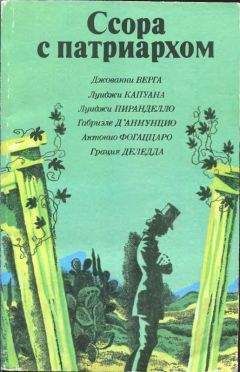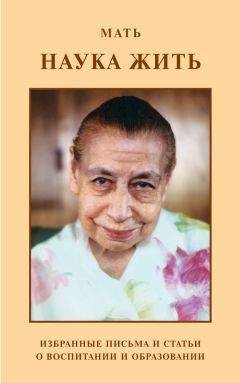Грация Деледда - Мать
Сначала он переписал стихи о тесных вратах — «Входите тесными вратами…», но потом зачеркнул их и на обороте листа написал: «Прошу вас не ждать меня больше. Мы оба оказались в сетях обмана. Нужно сразу же порвать, чтобы освободиться, чтобы не пасть окончательно. Я больше не приду. Забудьте меня, не пишите мне, не пытайтесь увидеть меня».
Спустился вниз, позвал мать в прихожую и, не глядя на нее, протянул письмо.
— Отнесите его сейчас же, — сказал он глухим голосом, — постарайтесь вручить ей лично и сразу же возвращайтесь.
Он почувствовал, как она взяла у него из рук письмо и поспешила на улицу. И на какое-то время ему стало легче. Над тихим селом, над еще темными в серо-серебристом рассвете долинами прозвучал третий удар большого колокола, призывавший к мессе.
Старики крестьяне с палками из корневищ, висящими на кожаных ремешках на руках, и женщины с крупными головами на щуплом теле поднимались в гору, направляясь к церкви, и казалось, они восходили из глубины долины.
В церкви старики заняли свое обычное место под балюстрадой алтаря, и сразу же вокруг распространился дурной запах.
Однако Антиоко, подросток пономарь, который помогал служить мессу, махал кадилом в сторону стариков, чтобы отогнать вонь. Постепенно облако ладана отделило алтарь от остальной части церквушки, и этот темноволосый пономарь в белом стихаре и бледный священник в своем облачении из красноватой парчи, казалось, двигались в каком-то жемчужном облаке.
Оба они очень любили дым и запах ладана и часто прибегали к нему. Повернувшись к прихожанам, священник сощурился, словно ему было плохо видно в этом облаке, и помрачнел. Казалось, он недоволен малым числом верующих и ждет, пока подойдут еще. Некоторые запоздавшие действительно подошли. В последнюю минуту появилась и его мать, и он побледнел так, что побелели даже губы.
Значит, письмо было вручено, жертва принесена. Холодный пот покрыл его лоб. И, освятив просфору, он простонал про себя: «Господи, отдаю тебе плоть свою, отдаю кровь свою».
И ему казалось, он видит, как Аньезе держит в руках листок, словно священную облатку, читает письмо и падает без чувств.
Закончив мессу, он устало опустился на колени и стал монотонно читать молитву по-латыни. Верующие вторили своему пастырю, а ему казалось, будто все это происходит во сне, и хотелось пасть ниц перед алтарем и забыться, заснуть, как спит пастух на голой скале.
Сквозь дым ладана он видел в нише за стеклом небольшое изображение мадонны, которое народ считал чудотворным, — темное тонкое лицо, словно камея в медальоне. И он смотрел на богоматерь с таким чувством, будто только сейчас впервые, спустя много времени, после долгого отсутствия, увидел ее. Где же он был все это время? Он не мог вспомнить, мысли его мешались. Но вдруг он поднялся и, обращаясь к верующим, заговорил с ними, что, правда, случалось не раз, но и не слишком часто. Он говорил на диалекте, резко, будто ругал бородатых стариков крестьян, выглядывавших из-за балясин, чтобы лучше слышать, и женщин, сидевших на полу, с любопытством и испугом смотревших на него. Пономарь, держа книгу, тоже глядел на него своими узкими черными глазами, время от времени переводя взгляд на прихожан и качая головой, как бы шутливо угрожая им.
— Да, — сокрушался священник, — вас тут становится все меньше и меньше. И когда я смотрю на вас, мне делается стыдно. Я чувствую, что похож на пастуха, который растерял своих овец. Только по воскресеньям в церкви еще бывает народ. И сказать правду, вы приходите сюда скорее из чувства стыда, нежели из-за веры, приходите по привычке, а не по нужде. Подумайте о том, часто ли вы меняете одежду, много ли отдыхаете. Так вот, пора пробудиться, пора пробудиться всем. Я не говорю, что в церковь должны приходить каждое утро женщины, занятые хозяйством, и мужчины, которым до зари надо идти на работу. Но молодые женщины, старики, дети, кого я, когда выхожу из церкви, застаю на порогах своих домов глазеющими на рассвет, — все должны приходить в храм божий и начинать день с богом, приветствовать бога в его доме и обрести силы, чтобы пройти тот путь, который предстоит пройти. Будете делать так — исчезнет нищета, которая мучает вас, забудутся дурные обычаи и искушение оставит вас. Пора пробуждаться чуть свет, и мыться, и менять одежду каждый день, не только в воскресенье. Я жду вас, братья и сестры. Начиная с завтрашнего дня будем вместе молить господа, дабы он не покинул нас и наше маленькое село, как не покидает самое крохотное птичье гнездо. Будем молиться за тех, кто болен и не может прийти сюда помолиться сам, чтобы они выздоровели и двинулись в путь.
Он резко обернулся, и пономарь в точности повторил его движение. На какое-то мгновение в церквушке воцарилась такая тишина, что слышно было, как стучит каменотес за скалой. И тут какая-то женщина поднялась с колен, наклонилась к матери священника и, тронув ее за плечо, прошептала:
— Надо, чтобы ваш сын сейчас же пришел исповедать Царя Никодемо, он тяжело болен.
Мать подняла на нее глаза, силясь оторваться от своих тяжелых дум. Она вспомнила, что Царь Никодемо — это старый охотник, чудак, который жил в хижине на плоскогорье, и спросила, нужно ли ее Пауло идти туда, чтобы исповедать его.
— Нет, — прошептала женщина, — родственники принесли его сюда в село.
Тогда мать пошла предупредить своего Пауло в маленькую ризницу, где он переодевался с помощью Антиоко.
— Зайдешь сперва домой выпить кофе?
Он старался не смотреть на нее, даже не ответил ей, казалось, ему очень не терпелось поскорее переодеться и поспешить к больному старику.
Мать и сын думали об одном и том же — о письме, переданном Аньезе. Но ни он, ни она не говорили об этом. Потом он поспешно ушел. А она, стоя недвижно, словно деревянная статуя, сказала пономарю, убиравшему облачения священника в черный шкаф:
— Лучше бы я сказала ему позже, тогда он пошел бы домой выпить кофе.
Но Антиоко, выглянув из-за дверцы шкафа, заметил с серьезным видом:
— Священник обязан ко всему привыкать. — И, продолжая укладывать вещи, добавил как бы про себя: — Наверное, он сердится на меня, потому что, как он сказал, я был рассеян. А я вовсе не был рассеян, поверьте мне, не был. Я только смотрел на стариков, и мне было смешно, потому что они ни капельки не понимали проповедника. Слушали открыв рот, но ничего не понимали. Готов поспорить, что старый Марко Паницца и в самом деле поверил, что должен каждый день мыть лицо, это он-то, который моется только на пасху да на рождество. Вот увидите, увидите, теперь они все толпой будут каждый день ходить в церковь, потому что он заверил, что тогда исчезнет нищета.
Она стояла недвижно, сложив руки под передником.
— Не станет нищеты духовной, — поправила она, чтоб показать, что она-то во всяком случае все поняла, но Антиоко все равно посмотрел на нее точно так же, как смотрел на стариков, — ему было очень смешно. Потому что ведь ясно как божий день, что никто не в состоянии понять все эти проповеди так же хорошо, как понимал их он, выучивший наизусть четыре Евангелия и мечтавший стать священником, что не мешало ему быть хитрым и любопытным, как все мальчишки.
Когда мать священника ушла, он, наведя порядок в ризнице, запер ее и прошел через маленький церковный садик, заросший розмарином, пустынный, словно кладбище. Но он не поспешил домой, к матери в остерию, что на площади на углу, а побежал в церковную пристройку, чтобы узнать про Царя Никодемо. Была у него и другая причина спешить туда.
— Ваш сын сердился на меня за то, что я был рассеян, — озабоченно повторил он, пока мать священника хлопотала, готовя завтрак для своего Пауло. — Может, он теперь не захочет, чтобы я был у него пономарем. Может, захочет, чтобы это делал Иларио Паницца. Но Иларио даже читать не умеет, а я научился хорошо читать даже по-латыни. И потом Иларио такой грязный. Как вы думаете? Он прогонит меня?
— Он хочет только, чтобы ты был внимателен, и больше ничего. В церкви нельзя смеяться, — сказала она строго и твердо.
— Он был очень сердит. Наверное, этой ночью он не спал из-за ветра. Слышали, какой был ветер?
Она не ответила. Прошла в столовую и поставила на стол столько хлеба и столько печенья, что хватило бы на двенадцать апостолов. Наверное, ее Пауло ни к чему не притронется, но когда она хлопотала, готовя для него завтрак, будто он вернется домой веселый и голодный, как пастух с гор, ей делалось немного легче и не так мучила совесть.
А совесть мучила ее все больше и больше. И даже слова мальчика: «Наверное, этой ночью он не спал, поэтому так сердится» — усиливали ее тревогу.
И она ходила взад и вперед, и ее тяжелые шаги гулко отдавались в тихих комнатах. Она чувствовала, что, хотя внешне как будто все было кончено, на самом деле все только начиналось. Она хорошо поняла его слова, произнесенные с алтаря: нужно вставать чуть свет, мыться и идти своим путем. Идти и идти. И она ходила взад и вперед, туда-сюда, туда-сюда, обманывая себя, будто и вправду куда-то движется. Привела в порядок его комнату. Но зеркало и запах, несмотря на убеждение, что все уже кончено, по-прежнему сердили и тревожили ее.