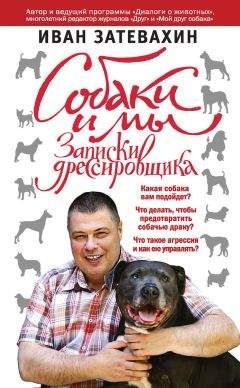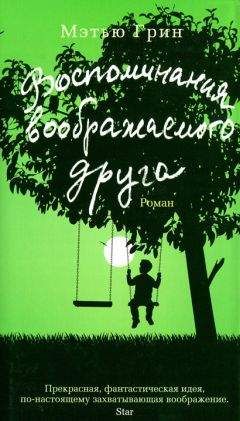Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Возможно, у него были преувеличенные представления о благородстве, но он считал низостью — подать голодному кусок хлеба, а затем надругаться над ним.
Женщина, которая ждала его всю ночь, не приходила три дня. На четвертый прпшла снова. Она привела с, собой девочку лет шестнадцати, такую же стройную, как она сама, но еще худее, в голубой кофточке, под которой едва–едва обозначалась грудь. Густые черные волосы спускались до пояса, обрамляя смоляным блеском бледное лицо с пепельно–серыми глазами и длинную алебастровую шею.
— Это моя дочка, — сказала гречанка. — Вы не пришли. Наверное, я вам не нравлюсь. Она моложе и красивей меня. Проведите с ней вечер. Хотите — на мельнице, хотите — у нас. Я уйду и вернусь поздно.
Вениамин смотрел на девушку, в ее глазах не было ни желания, ни даже ненависти. Только цвет пепла — которым был засыпан пол в сгоревшей мельнице.
— Она не такая уж маленькая. — Мать угадала его сомнения. — В ноябре с ней в первый раз переспал один офицер. Бабушка у нас расхворалась, нужны были деньги купить дров…
— До свиданья! Идите домой, — проговорил бывший настройщик. — Я постараюсь прийти.
И не пошел.
Больше эта женщина не появлялась. Возможно, ходила просить хлеб у кого–нибудь другого…
Лежа на своей солдатской койке, Бисеров видел сквозь мертвые проемы мельницы небо, пристань, улочки бедного квартала, где за каждым углом притаилась война. Но не выстрелы ужасали его и не грузовые машины, где под пропыленным брезентовым верхом звякали солдатские каски, удаляясь на Ксанти и Салоники. Его ужасало, что матери предлагают своих дочерей за буханку черного солдатского хлеба.
«Вот это и есть, — думал он, — величайшая жестокость войны…»
А где–то далеко к северу, за оливковыми рощами и бледными очертаниями гор, которые, казалось ему, вздрагивают от гула военных самолетов, женщина по имени Антония Наумова (он и здесь думал о ней) надевала перед зеркалом шляпку с узкими, загнутыми кверху полями, накладывала на губы толстый слой помады, чтобы оживить бледное лицо, и шла на поиски, как она сама выражалась, крупицы радости в этой беспокойной и быстротечной жизни…
* * *Художник долго не мог уснуть. Кран во дворе был отвернут — кто–то поливал сад. Заглушая шипенье воды, полз по траве шланг. Потом струя взметнулась вверх, и он увидел в раме окна опаловое буйство воды — короткая свистящая дуга плыла в воздухе, раскачиваемая чьей–то невидимой рукой, и размывала очертания дальнего холма.
Он слушал мелодию ночи, рожденную бессонницей горных вершин, и думал о нелегкой доле своих соседей по дому престарелых, чьи кровати сейчас поскрипывали, потому что к ним тоже не шел сон. Не была ли их жизнь мелодией его жизни, только исполненной другим инструментом — нежной флейтой циркового оркестра, пианино, в басах которого звучит плеск дунайских вод, или виолончелью, напоминающей гул ветра в рыбачьих сетях?
К полуночи сон сморил его.
Художник почувствовал, что у него мокрые руки. По коленям пополз холод. Он хотел закричать, но вдруг ноги коснулось весло… Впереди него сидел дунайский рыбак, Иван Барбалов. Старая лодчонка с облупившейся краской на бортах медленно двигалась вдоль берега какой–то большой реки. Весла врубались в отражения ив, и брызги, разбрасываемые взмахами сильных рыбачьих рук, падали на художника. «Куда мы плывем, Иван?» — пытался он крикнуть, но слова застревали в горле, и лодочник не слышал его. Река широкая, за пеленой тумана другого берега не видно — никогда им, наверное, туда не доплыть. Лодочник не оборачивался к своему спутнику. Широкополая черная шляпа (и откуда она взялась? Иван никогда таких не носил) при каждом взмахе весел наезжала ему на уши, жилы на загорелой шее вздувались, и художник понимал, как трудно Ивану грести.
Лодка замедлила ход. Тянувшийся за нею след, еще секунду назад такой пенистый, стал ровным, спокойным, будто кто–то начертил на воде темно–зеленую линию. Они подплыли к неводу, натянутому на высоких шестах — белых от помета чаек. Тут Иван впервые обернулся, и художник увидел, что сквозь тень от широких полей шляпы (она закрывала все лицо до подбородка) на него смотрят задумчивые, обрамленные морщинами глаза его друга. «Берись за край невода!» — сказал Иван. Пронизанный подползшим туманом голос растаял в воде.
Лодка описала большой–круг.
Невод следовал за лодкой, руку дергало — точно нижний край сети цеплялся за дно, а художник чувствовал, как бьется пойманная рыба.
Вытянули невод на берег. Повиснув на жабрах, качались на нем красноперки.
Дно лодки покрылось рыбой. Художник ощущал ее прыжки у своих ног. Второй невод тоже провис под тяжестью богатого улова. Старая лодчонка была полна до краев, но Иван продолжал грести к следующему таляну. Рыба уже переливалась через борт, давно пора было остановиться, повернуть назад, но, побуждаемые какой–то необычайной жадностью, они продолжали плыть сквозь туман.
В том таляне, к которому они подплыли после долгого пути, была всего одна рыба. Она показалась им непохожей на других — хвост у нее был золотой. Рыба подпрыгнула, секунду парила в воздухе и ушла на дно. Следующий невод был пуст. Он лишь всколыхнул гладкую, безмолвную воду, и в ней замелькали отражения людей, быть может, извлеченные из самых глубин. Волны размывали лица, и художник не мог разглядеть, кто эти люди. Дрожание воды придавало их взглядам трагичность, ирреальность… Художник почувствовал, что в него всматриваются чьи–то давно забытые глаза, и заслонил лицо рукой.
— А вон в тех сетях, вдалеке — только одни отражения, — глухо произнес лодочник.
— Вернемся! — сдавленно крикнул художник, у него перехватило горло. И когда он отвел руку, то увидел, что со всех сторон устремлены на него круглые, налитые туманом глаза дохлых рыб.
— Вернемся! — прохрипел он.
Лодочник обернулся (рыбы, как застывший гипс, плотно обхватили его ноги) и сказал:
— Старый я, дороги назад не помню…
Художник проснулся, посмотрел на окно. Было совсем темно — вероятно, уже полночь, — не видно ни зги, только одна звезда приклеилась к мокрому стеклу. Она мерцала, медленно разгораясь зеленым цветом. На соседней кровати спал Иван, уткнувшись головой в колени (наверно, язва скрутила).
На полу темнело сброшенное одеяло, и плешивое темя старика, заостренное, как макушка речной скалы, мерно двигалось в такт дыханию.
* * *Он где–то прочел, что человек умирает дважды. Первый раз — когда болезнь приковывает его к постели. Глядя изо дня в день в потолок, он забывает о том, что когда–то над его головой было небо с вечерними дивными птицами, которые еще с детства запали в память. Они парят в синеве, и ветер баюкает их, как клочья облаков. Скользят по синему глянцу неба, и, вглядываясь в их движение, думаешь, что птицы вздрагивают от дыхания разомлевшей летней земли… Так мыслилось ему когда–то, когда сумерки следовали за ним по пятам и подошвы отпечатывались в мягкой дорожной пыли, а кругом звучали голоса людей, возвращавшихся домой с виноградников.
Теперь все его ощущения земли и неба замкнуты квадратом пожелтевшего потолка, и облака там тоже неподвижные, словно приклеенные к штукатурке. Усталая мысль шевельнется, ударится в угол. Закачается паутина, тонко, протяжно зажужжит пойманная муха. Она надеется, что кто–то откликнется на зов, спасет ее, но из темноты угла уже выползает паук. Он не торопится. Его круглое тельце, поблескивающее, точно капля дегтя, покачивается на ногах–щупальцах, а в его неторопливости — садистское наслаждение победителя, который хочет подольше полюбоваться агонией жертвы…
Вторая смерть наступает тогда, когда уходит из жизни последний из тех, кто думал о тебе, вспоминал часы, проведенные с тобой в поезде, в горах у костра, сквозь дым которого мелькают летучие мыши.
Сидя в старой деревенской корчме, вы вместе смотрели, как барышник с золотой цепочкой на толстом брюхе, распирающем засаленный жилет, вводит в дверь каурого жеребца. Намотал уздечку на руку, дергает. Испуганное животное ржет, вскидывает морду к потолку, вертит потным, лоснящимся крупом. В углу наяривает на скрипке цыган. У него черные руки с рубцеватыми суставами, ветхая рубаха с закатанными выше локтя рукавами кажется серебристой. Ржание сбивает ритм мелодии, но еще миг — и движения смычка вновь становятся уверенными. Когда скрипач поворачивается к окну, свет падает на его скуластое лицо, обтянутое опаленной прыщавой кожей. Цыган плавно переводит глаза, следя за изогнутым, точно змеиная голова, кончиком смычка.
— Давай, Софрон, наяривай, рви струны, цыганская твоя рожа! — орет барышник.
Раскорячившись, он лезет в задний карман штанов, обтянувших его жирные ляжки, вытаскивает банкноту и, не поглядев, какая она, прилепляет к потному лбу скрипача. Бумажка на секунду задержалась там, потом краешек отгибается, и она пролетает наискосок от скрипки. Жеребец на лету перехватывает ее, мнет губами, а затем роняет скрипачу под ноги. Тот нагибается за предназначенным ему подарком и, чувствуя у себя на шее дыхание коня, благодарно смотрит на барышника. Потом вытирает заслюнявленную бумажку о бороду…