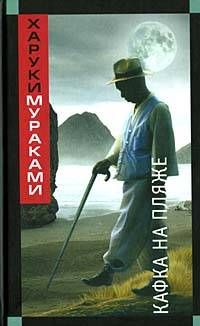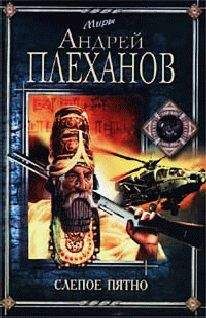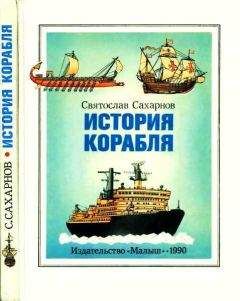Галина Докса - Мизери
Он был влюблен и нищ. На цветы не хватало денег. Света сама сказала, попросила, увидев, как он, отвернувшись, покрывает скорописью пачку сигарет (они стояли на дачной платформе; он переводил каждую минуту, даже в те драгоценные, все наперечет, минуты, которые делил с ней, — он переводил на ходу, легко, как думал, — да, тогда он думал стихами, любая мысль его имела форму сонета). «Дай!» — попросила Света… Прочитала… Поцеловала его.
«Лучше цветов!» — сказала она. Он засыпал ее листками с переводами. Сонеты множились, как лепестки распускающейся розы, и он угорал один в багровом чаду этой растущей на его глазах красоты. Он нес и нес, сыпал и сыпал, и она не успевала выучивать их наизусть, и дразнила его, ловя на смешных описках, и сердилась, что он слишком торопится. Он приходил с охапкой новых переводов, садился рядом и клал листки к ней на колени. «Ну, попробуй! — робко начинала она, восхитившись опять. — Ведь есть же еще молодежные журналы! Хочешь, я пойду вместо тебя? Это не Шекспир, конечно, но это… Это просто какое–то чудо!» Он сдувал листки с ее колен и клал туда голову. Когда это было? С кем это было? Разве такое бывает?..
— Господи! — взмолился он. — Прошу тебя, сделай так, чтобы я ничего не понимал. Сделай это! Я не попрошу больше никогда. И я в тебя поверю — сразу, вот… Смотри!
Он открыл книгу с закрытыми глазами, наугад.
И снова этот сонет. Тот, что не дался ему десять лет назад. «Теперь, когда весь мир со мной в раздоре», — прочитал он и захлопнул том. Ничего не случилось. Она сжала руками его голову, приподняла и заглянула в глаза — как будто умоляюще? Или с упреком? Какой там был взгляд, какая улыбка, как долго длились ее наклон и осторожное, точное движение двух ладоней, скользнувших по полу, вмиг собравших в горсть белые листки и вернувших их на колени? Это — было?..
«Четырнадцать! — улыбнулась она, сосчитав. — Как раз на венок». — «Никогда не был так счастлив», — сказал он, зарывшись губами в ладони (бумага скрипела и кололась). «Что?» — спросила она.
«Что?» — «Не слышу!» — «Громче!» И потом, отложив стопку: «Тише, услышат…»
Игорь сунул в карман затрепанный том Маршака, невесть кем оставленный на скамейке Михайловского сада. С недавних пор он повадился сидеть тут в обеденный перерыв, предпочтя тощий бутерброд с пивом утомительным и слишком обильным обедам в компании коллег. Обеды оплачивала фирма, и многие русские сотрудники (из «старичков») уже пошучивали насчет неизбежной в скором времени смены гардероба, так «закормили» их патерналистски настроенные хозяева. Игорь тоже чувствовал, что начинает полнеть в талии, но это мало его беспокоило. С отъездом семьи он совсем махнул на себя рукой: ходил в старой куртке, перестал носить галстук, ленился менять рубашку и через день, а иногда забывал побриться. Последнее было слишком заметно, и он рисковал получить выговор от непосредственного начальства, если бы попался на глаза начальству высшего ранга. К счастью, весной Петербургский филиал компании находился в весьма подвешенном состоянии. Поползли слухи, будто там, в Калифорнии (или Джорджии, или Алабаме), ставится вопрос о сокращении численности здешнего персонала. И то сказать, работы русским переводчикам к весне почти не осталось. Мы фланировали по опустевшим коридорам аквариумоподобного (все углы проглядываются из кабинета Главного Администратора) офиса, сталкиваясь носами, как ленивые перекормленные рыбы, и обмениваясь папками с документами, каждая из которых побывала в руках каждого по меньшей мере…
Ну, точно! Эту папку Игорь не далее как вчера передал на доработку в параллельный отдел. Он хорошо помнил узел, которым завязал на ней тесемки: тройной, заломленный… Разумеется, там не удосужились даже развязать папку. Он занял свое место у окна, распутал узел, раскрыл папку, покосился на кабинет Администратора, вынул из кармана томик Маршака, положил его перед собой, заслонив картонным бортиком, нашел тот сонет и в мучительной неподвижности уставился на его первую строку… Потом, ступив шаг, на вторую.
Дальше не пускала его память, ворочавшая внутренней речью, как дерево, сотрясаемое бесшумной бурей, ворочает корнями в каменистой почве на краю заброшенного сада, в разгаре весны, в начале лета перед вечерней грозой, ненастной зимой, нескончаемой, как утверждала метель за окном, этот мрачный мартовский снегопад, вращающийся, будто огромное колесо, будто зерно в еще не разогнавшейся мельнице! Сейчас там наддадут… Ветер… Или вода?.. Вода… Воды — на крылья! Воды!..
«Теперь, когда весь мир со мной…»
«Теперь, когда весь мир…»
«Весь свет…»
Теперь, когда весь мир со мной, весь свет,
Как десять лет назад, и десять весен,
И столько ж зим, и девять белых лет,
Как пальцев, сжатых в круг, и в теплой горсти,
Как десять лет назад, птенцу, как мне,
В жару и страхе, сомкнутые прочно,
С мизинцем лишним, давят девять лет
Теперь, когда весь мир… когда весь свет
В твоей горсти, не пролит, свет молочный.
Мой мир. Мое дыхание. Мой свод,
Сведенный бережно. Как десять первых строчек.
Теперь и неизменно. Белой ночи
Перо в паденье, мой десятый год.
Последний год. Излитый свет молочный.
Излитый свет. Молочный зуб. Двора
Бездонное дупло. Весь мир со мною.
Мне десять лет. Жестокая пора.
Я выпал из… Теперь, когда нас двое…
Блаженство тесноты. Просветы сна.
Зубчатый луч. Щербатый щебет; кладку
Возводит память, выше, выше! Нам
Не страшно пасть на камни, где–то там,
Внизу, начнется жизнь паденьем сладким.
Я выпал. При падении сломал
Два костных выроста, перевернулся трижды,
В булыжник клювом. Ранил клюв. Пищал,
Закрыв глаза; прозрел, ничтожный, вижу:
Нас тьма, зовущих мать. И свет под крышей.
Нас тьма, зовущих. Масть у нас одна.
Живой булыжник шевелится в муке.
Все гуще тень от стен. Все ближе руки,
Спасительный подъем, и от окна
Чердачного, ладони мне раскрыв,
Ты прянешь вниз. Мне десять лет. Я жив.
Засеешь двор крупой и хлебной крошкой,
На корточки присев, ко мне склонив
Мальчишескую голову в беретке
Коричневой. Я жив. Потрепан кошкой.
Не трепещу в руках. И с низкой ветки
Взираешь ты же… крылья распустив
Шатром. Мне десять лет… Как десять лет
Назад. Теперь. Когда… со мной… весь свет…
В раздоре. Ты разлюбишь. Изменив,
Забудешь. Треснет кладка. Сгинут десять
Неплотных лет. Изменишь, разлюбив,
Неплотный мир, прольется свет, и месяц
Исчезнет щелью, скважиной замка.
Погаснет свет за дверью. Имя, тая,
Исчезнет той, что помнила, сплетая
Венки из вянущих… Два выпало цветка,
Два имени. Два жарких уголька —
Два круглых глаза… Стон: «Не разлюбить…»
Душа моя! Мой свет!.. Хотелось жить.
Хотелось жить, и оттого, что сроки
Не близились, пугая, но, страша,
Нависли в неподвижности, намеки
Ты втуне тратила, моя душа.
Любовь моя! Как дивно вдоль ограды,
Плющом цветущей, двигаться в тиши
Вечерней по границе сада!
Вон домик твой белеет; две души —
Голубки по углам — моя услада.
Гляди!.. Но смотришь вдаль, меня не слыша.
Идем!.. Я онемел, я изнемог.
Успей! Но с черепичной ветхой крыши,
Шурша, скатился, стукнул лепесток.
Взлетели, чу!.. Забылся сад; венок
Упал в траву, лавиной — черепок
За черепком — вниз потекли; нарядный
Скат обнажен; как кровь, струится прочь
Непрочный кров. Чугунная ограда
Увяла. Это ночь. Все это ночь.
Куда же ты? Наш срок еще не назван.
Зачем спешишь с изменой? Не меня
Ты губишь, милая, ступая раз от разу
Все боязливей вдоль ограды дня.
Ты босиком… По битой черепице…
Порез глубок… Но — глиняная пыль —
В тебе сухая кровь, она крошится,
Как темный хлеб. Как корм. О, глина — гниль —
Глупец! Так я не там тебя водил!..
Сюда — назад — немедля — по границе
Другой!.. Но тоже звук: «Когда со мной
Весь мир…» Изменишь ты. Ну так скорее!
Не медли, горлинка, душа, о ангел мой!
Теперь же, здесь! Пусть ночь умрет, седея
Безрадостно; линялым полотном
Прильнут рассветы летние; покроет
Ненастье сад, тебя и память… Дом —
Вот он, но в нем не жить. О, даже в нем,
Последнем уцелевшем, нас не двое.
Лишь ты. Снижаясь над двором, парит
Голубка–день, но где птенец чепрачный,
С пятном на темени, молочный — твой? Зари
Ненастной млечный свет в окне чердачном?..
Но топчут двор сироты–сизари.
Твой топчут корм сироты–сизари.
Их клювы — раны. Сникли, неподвижны,
На шеях сломленных головки. Говори.
Рассказывай, как было. Не увижу
Тебя, но голос твой еще слыхать
Мне, стаей той прибитому к забору.
Летать — увы! Но все ж перелетать
Способен я! Голубка, целовать
Их всех — зачем? Кормить их без разбора:
Чужой ли, свой? Поить из клюва в клюв,
Цедить по капле жизнь… Да впрок ли это?
Нет, повтори! Еще целуй… «Люблю» —
Пропой — пролей — в меня: «Как дальним светом
Зари не развести молочный мрак…»
Заре не развести полночный мрак.
Я соскребу тебя, до сердцевины
Я доберусь. Ты… скользкая кора,
Ты липкий свет, ты страшная пора
Весенних лун. Ты медной половина
Полушки. Ты!.. Сочти ступени вслед
Спине бегущей; звоном неслышимым,
Мышиным писком — задержи! Монет
Была полна, но не удержит горсть.
Вслед спинам всем, тишком — неустрашимо!
Была полна, но не удержит горсть.
Ущербная луна, незваный гость,
Любимый гость, неведомый досель.
Обманный март, заигранный апрель.
Бездомный Март! Отверженный Апрель!
Стучи, бей — жги, отпетая капель!
Плачь, сыпь! Злоумышляй, но помни срок:
Весна. А дальше сушь. Через порог
Поспешный разговор, щелчок замка,
Спиной к спине — двойное изваянье,
Непрочный шаг, но прочь… Издалека
Еще хлопок, и медлит не рука
На ручке двери, а сама… Прощанье —
Не казнь и не прощенье. Знаю, кровь
Из слабого пореза бледных снов
Мне не окрасит… Обращенье — ров.
Мост поднят. Медлит не рука — любовь.
Любовь моя. Я не хотел прощенья.
Голубка, горлинка — хотел! хотел!!!
Ты целовала–ворковала, пела
Нам с низкой ветки. Не спала. Бледнела
На облаке улыбка. Слабый белый
Снег сыпался на двор, и легкий твой
Бессмертный пух парил над головой
Моей. Я здесь один, а те
Перелетели, двор переменили,
С увечьем свыклись, топчут снег, по крошкам,
По жирным хлебным россыпям… немножко…
Еще немножко… Так… И так… «Твой зоб
Уж полон, милый…» Так же нас кормили
И во младенчестве… Зачем они топтали
Твой хлеб, твой снег? Бессильны взять, но взяли…
Бессилен взять, но взял. За то, мой Бог,
Душа моя, в потемках истекая
Утробной кровью, расплатилась в срок,
Теряя память, памятью теряя
Меня, как я весь свет, мой ангел, пыл,
И жар, и сень крыла, и пух подкрылья,
И писк птенца, и мраморную пыль
Скрипучей скорлупы — и скорлупы
Сыпучий мрамор — жар — под пухом… пылью…
Под скользкой кожей… под… А-а! Везде!
Под шарфом… в рукавах… Я плачу? — нечем!
Мне нечем жить! О Мать! Мой слабый зев,
Мой детский клюв нежны. Мой голод вечен.
Мой голод вечен. Жар неутолим.
Мой жар неутолим. Когда весь мир —
Двор замкнутый, вслепую перелеты,
И мир, очнувшись, — сад, и сад — клавир
Заснеженных стволов и просит ноты
Затверженных слогов пересыпать
С листа на лист, канона, как ограды,
Держась, бегом, вдоль улицы, звучать
Чугунным шорохом… Мне утро без отрады
Дороже вечера надежды, снегопада
Ночного смерть отрадней жизни. Бремя —
Пятно на темени, молочный мрак тоски
У выхода обвалом с ветки, время,
Приму, перелетев туда за всеми,
По такту, по глотку, как корм с руки.
По такту, по глотку, за часом час,
К последнему пределу до границы
Забвения, покуда не угас
Чердачный луч. И я тебя не спас.
И ты умрешь, и ты сомкнешь ресницы
Чугунные. Крылатые мосты
Разведены, трепещущие брови
Замрут в тоске признания. И ты
Поймешь: уже конец. И первой крови
Последняя не вспомнит, убивая,
Как родовая боль, сквозь десять лет
Сочится, точит камень, топит след,
Плывет зарей и гибнет, истекая,
Теперь, когда весь мир с тобой. Весь свет.
DIRECT SPEECH. COMPLETION (10)