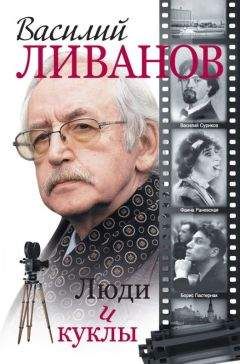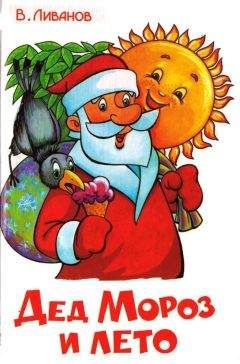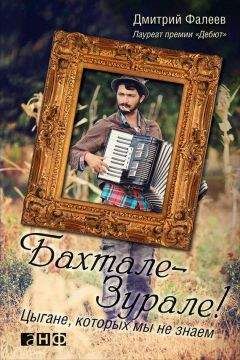Александр Ливанов - Начало времени
Дабы я имел представление о размере моей раны, мать говорит, что «целый носовой платок влез в нее». Она показывает мне этот красноармейский носовой платок — он похож на комок спекшейся крови. «Постираю и отнесу красноармейцу, который тебя подобрал на обрыве. Как грудного, на руках домой тебя принес». Пальцы матери еще судорожней перебирают мои волосы, на мою щеку падает горячая материнская слеза.
И только теперь я вспоминаю Турка и Буланку, которая так нехорошо обошлась со мной. Я слегка вожу головой влево–вправо: болит!.. Трогаю повязку — почти вся голова забинтована марлей. Солидная повязка! Я как раненый красноармеец! Сделав усилие над собой, слегка приподнимаю голову. На старой материнской шали, которой я укрыт, множество белых ниточек от бинта. Словно по шали расползлись белые и тоненькие червячки. Какая‑то багровая муть плывет перед глазами. Я опускаю на место голову — ее словно иголками протыкают со всех сторон.
— Это вчера было? — спрашиваю я.
— Что ты, сынок! Это третьего дня было. И все из‑за Турка скаженного, — говорит мать и вытирает слезы, — небось неделю лошадь не поил. Все самогон жрал, а лошадь забыл…
Повязкой мне оставлен только один глаз. Этим одним глазом смотрю я на мать и отца, на образ божьей матери в углу хаты, на хорошо знакомые предметы в комнате: закопченную печь, стол, лавку. И все как‑то выглядит непривычно, странно. Я мигаю в темноте под повязкой другим глазом. Все в порядке! Боли нет. Я пальцами осторожно раздвигаю марлевые бинты: свет вдруг ослепляет меня. Хорошо! Я вижу обоими глазами!
— Не трогай повязку, — говорит мне мать, — слышал, что доктор сказал. Нельзя пока снимать ее! Там — цинковая мазь!
А я и не собираюсь снимать. Повязка мне нравится.
Я уставился своим единственным глазом в потолок, где между кривыми балками–матицами множество трещин, пупырышек, серповидных полос и хвостатых дорожек — следов рогожной щетки, которой мать весной белила хату. Если долго и внимательно смотреть на эти полоски, пупырышки и трещинки, можно увидеть много интересного. Вот там, например, коза стоит на худых задних ногах своих, наверно, собралась перемахнуть через плетень и навестить чужой огород; а вот здесь — рощица или подлесок сосновый; а там стремительно летящая в атаку конница… И что любопытно, на потолке «картинки» не исчезают, как, скажем, на небе в погожий день, когда в синеве плывут белые облака. Только рассмотришь облачную картинку, узришь в ней что‑нибудь чрезвычайно интересное — лохматого громадного медведя или разбойника с оскаленной пастью, — а через мгновение поминай как звали! Нет уже ни медведя, ни разбойника. Размыла их синева. Только белые от них клочья остались. Жаль, что не вернуть уже именно этой картинки, хотя и в размытой, если опять внимательно присмотреться, увидишь новую, тоже интересную картинку…
Я гляжу на потолок и почему‑то вспоминаю наш пруд, заросший ивняком и орешником берег, желтые и нежные кувшинки над зеркалом воды, сквозящее через освещенный солнцем слой воды песчаное дно в едва колеблемых водорослях. Вспоминаю поле, усеянное голубыми звездочками льна, высоко взметнувшие и страховито густые зеленочерные конопляники, волны сизой и дымчатой ржи, плывшие по небу легкие перистые облака, золотые шелушащиеся сосны, освещенные предзакатным солнцем, их мерцающие шелковисто–курчавые кроны. Мне очень грустно, будто вся эта красота утрачена мною навсегда. Я засыпаю и вновь просыпаюсь и не могу отличить сна от яви.
Устав глядеть на потолок и его картинки (я еще не раз вернусь к ним!), я снова вспоминаю кузню, Турка, Вуланку, а главное, доброго «нашего» доктора в золотых очках, с серебряными часами. Благодаря доктору, я опять услышал от отца новое, очень значительное, надо полагать, слово — «интеллигент». Я понимаю, что суть здесь не в золотых очках и серебряных часах. Скажем, очки надевает и ионадья Елизавета, когда вышивает по канве, а дорогие серебряные часы «Павел Бурэ» с цепочкой носит Терентий, которого отец называет «боровом» и другими не слишком лестными кличками. Отец признанный мастер давать клички! Половина сельчан без обиды носят отцовские клички. Я еще расспрошу у отца (а лучше у учителя Марчука) про это слово, что оно означает. Но я уже чувствую, что слово обозначает человека доброго, ученого и красивого, — как «наш доктор». Теперь я уже мечтаю быть не студентом, а — «интеллигентом». Правда, комиссаром кордона и «комсомольским главным», который носит кожаную куртку, а поверх ее наган, мне тоже очень хочется быть.
Марчук пришел к нам вечером. Я еще не успел задать ему свой вопрос, как речь зашла о докторе. На отца, заметил я, произвели большое впечатление слова Марчука, что доктор — «партеец». И, поразмыслив, отец молодцевато глянул на учителя: «Да, это — интеллигент!..» — «А как же ты думал, — говорит отцу Марчук, — много мы стоили б, если б интеллигенция, настоящая, конечно, не шла бы с нами, с народом?»
И опять вопрос: как это — настоящий интеллигент? Значит, есть и ненастоящие? Вроде тех фальшивых червонцев, которые контрабандисты приносят «оттуда»?.. Нет уж, как-нибудь, когда отца не будет, я обо всем хорошенько расспрошу Марчука…
А Марчук между тем рассказывает очень интересные вещи про «нашего доктора». Оказывается, что когда власть была у петлюровцев, в городской комитет большевистской ячейки явился «наш доктор». На одном визите он случайно услышал, что петлюровцы выследили комитет и собираются сделать на него облаву. Они знают место и время совещания и вечером нагрянут, чтоб всех заграбастать…
Два месяца прятал молодой доктор шестерых большевиков в своем загородном домишке. Шпики с ног сбились — так и не нашли! А когда красные освободили город, в ячейке было уже двумя партейцами больше: в подполье доктор и жена его стали членами партии.
— С кем поведешься, у того и наберешься, — шутит отец.
— Да, это не то, что твой штабс–капитан Шаповалов, — хитро усмехнулся Марчук и шевельнул щеточками усов, подпустив шпильку в адрес отца. Он даже подмигнул матери, но та сделала безучастное лицо. В вечных спорах гостей и отца она по возможности старалась придерживаться нейтралитета. Гости приходят и уходят, а муж остается.
— Ты штабс–капитана не трогай! Ты не знаешь, какой это был человек! — подал голос отец. Штабс–капитан — его святыня, и никому он не позволит кощунство над нею.
— А что там знать? Жил для себя, — пряча улыбку в глазах, продолжает Марчук. — Стал бы он рисковать жизнью ради других?
— Стал бы! — горячо, с убежденностью тут же отозвался отец. Я смотрю на него — и не узнаю. Как преображает человека бескорыстное чувство любви! Что‑то отца распрямило, глаза загорелись от воодушевления. Отец и сам сейчас — весь готовность рисковать своей жизнью за штабс–капитана. И чем расположил его этот безвестный штабс–капитан? Заслужить признание отца, не признающего ни авторитетов, ни власти над собой, больше всего ценящего независимость, — задача не из легких. Мне кажется, Марчук даже немного ревнует отцовскую любовь к этому штабс–капитану. Я пытаюсь себе представить его, штабс–капитана Шаповалова, по мое воображение тут работает вяло, не может сотворить ничего значительного. Оно подсовывает мне готовых красавцев–офицеров — аккуратно и гладко причесанных, с ровными, как полевая межа, проборами, с четко, как по линейке, подстриженными усиками и в страх элегантных кителях. Взгляд у каждого — твердый и неуступчивый, точно видят перед собой не меня, грешного, а врага, немца–супостата. Это фотографии офицеров из тех журнальных комплектов «Нивы», которые приносит домой отец. Он иногда позволяет мне их полистать. Офицеры — большей частью — герои и жертвы полей сражений. Под фотографией–картинкой, рядом с подписью, напечатан маленький, точно перекрещенные восклицательные знаки, крестик.
Учителю надоедает штабс–капитан и отцовская верноподданная любовь. Он склоняется к моему единственному глазу. Его светлые щеточки усиков придвинулись вплотную: вот–вот уколют меня. Учитель подмигивает мне по–свойски. «Ну что? Скоро в школу пойдем? Учиться будешь, настоящим интеллигентом станешь?»
Я не успеваю ничего ответить. Я только беру на заметку, что Марчук каждый раз к слову «интеллигент» прибавляет — «настоящий».
Что же это, наконец, такое — настоящий интеллигент?
Вопрос, против ожидания, пришелся по душе учителю. Он даже ракрыл рот от изумления. «Слышь, Карпуша! Сразу в корень смотрит племя молодое!»
И долго и горячо толкует мне учитель, разные непонятные слова говорит. Мне кажется, говорит больше для отца, на которого искоса поглядывает. Заложив руку за спину (похоже, он уже забыл про меня), учитель ходит от печки до стола и обратно. Ходит, задумчиво глядя в землю, наверное, как у себя в школе, на уроке.
Единственное, что запомнил я, это — что ненастоящий интеллигент вроде гриба мухомора: на вид и красивый, и яркий, а на деле — одна отрава.