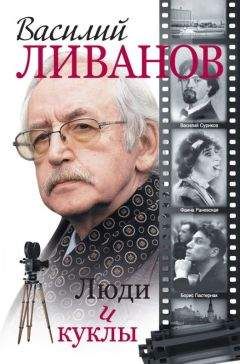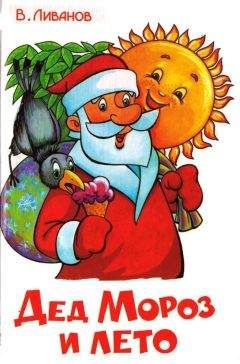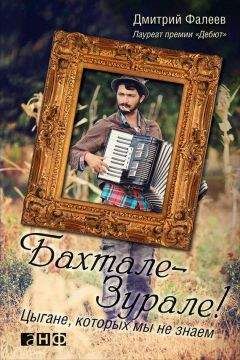Александр Ливанов - Начало времени
Отец тоже слушает учителя, не спорит.
«Физика!» —подмигивает он комсомольцам. И рассказывает анекдот. Вез мужик профессора в распутицу; лошадка пристала, поскользнулась и брякнулась в грязь. Разъезжаются в грязи ноги, никак не встанет одер. Профессор говорит мужику, что нужен домкрат, рычаг первого и второго рода, и в общем целый курс механики преподал мужику.
Кончил профессор, мужик и говорит ему: «А теперыча, ученый барин, — ежли ты все уже сказал про свою физику–мизику, слушай мою науку. Она покороче: берись за хвост — да и поднимем».
Все смеются. Отец тоже. Комсомольцы уже опорожнили третий самовар. Чай душистый, заваренный на вишневых веточках. Спать все идут в ригу, на солому. А с майдана, где не молкнет заливистая гармошка, доносятся новые искрометные запевки и частушки. Высокий озорной девичий голос выводит с лихостью, горячо:
Мы не курим, мы не пьем,
Лайки не вживаем.
И себе сим не псуем,
И других навчаем.
Завтра, подпевая комсомольцам «По морям, морям, моря–ам», мы с Андрейкой и Анюткой, шагая позади строя, провожаем комсомольцев за околицу. Они уходят обратно в город. Очень хотелось бы и нам побывать в городе! Ни я, ни Андрейка с Анюткой еще ни разу там не были. А ведь сколько слышим рассказов взрослых про город и городской базар!
Самогона на селе не найти теперь днем с огнем. Зато водка, названная «рыковка», продается в кооперативе. Чтобы достать деньги на водку, отец продает все, что можно продать. Уже ухнули в возок Турка два мешка кукурузы, мешок подсолнуха. Очередь за рожью. Мать плачет, но ничего поделать с отцом не может. Когда он уходит в кооператив за новой поллитрой, мать быстро нагребает мешок ржи и уносит его к Симону. Еще один мешок уносит она к Василю…
Через день–другой отец спохватывается: «Где рожь? Где?» — «Пропил всю, как есть!» —говорит мать. Отец сконфуженно пожимает плечами; он ничего в эти дни не помнит.
Вечером у нас гостит батюшка. Про комсомольцев ему, видно, неприятно слышать. Он любит слушать, когда отец философствует. Косится на пляшку, куда отец переливает водку; сам, как всегда, угощаться отказывается. Когда комсомольцы были в селе — батюшку не видно было — из дому не выходил… С интересом, часами слушая отца, батюшка изображает равнодушие, подобающее его сапу. Всем печалям отца о людях и земных делах их батюшка всегда находит аналогии и толкования в Священном писании и Евангелии. Отца раздражает ветхозаветная мудрость батюшки. Батюшка, однако, умеет урезонить отца. Природа человеческая мало, мол, меняется. Слова только каждый раз другие. Как был грешным человек, таким он и остался.
Мне странно, что батюшка говорит с отцом попросту, не так, как в церкви, не «по–божественному». В церкви батюшка строгий и важный, ни меня, ни мать не замечает. На рождество и на пасху мать меня берет с собой в церковь, подводит к батюшке под благословение. Он кладет мне на голову бледную, в синих жилках, как тощая курица, руку, шепчет непонятные слова. В своей тусклой и потертой рясе батюшка тогда кажется таким же злым, как и намалеванные на иконах старцы с плоскими лицами и впалыми щеками. В церкви моя многогрешная душа пребывает под постоянным гнетом страха божьего… Я должен любить батюшку, а не могу. Мать велит любить бога, а Марчук — тот даже стихами говорит: «Никакого ^бога в небе, только люди на Земле!»
На селе поговаривают, что наши комсомольцы сочинили бумагу и послали куда следует, чтоб отнять церковь. Их городские комсомольцы надоумили. Батюшка слушает толки об этом и едва скрывает тревогу. «Закона такого нету! Власть не позволит!» —говорит отец. Мать во все глаза глядит на отца–богохульника.
Уж этого она никак не ждала от отца!
Смерть Алеши, всеобщее безбожие, надвигающаяся старость — все это как‑то сразу обрушилось на батюшку. Он заметно сдает: круглое, благообразное лицо стало одутловатым, под глазами — лиловые мешки, взгляд вялый, тоскливый, как у нашей Жучки, после того как отец роздал ее щенков. Все думает, думает батюшка, все больше слушает отца и все рея^е переводит его речи «на божественность». За слова о законе и власти — он благодарно взглядывает на отца. Матери тоже по душе слова отца. Заходит речь о справедливости. «Человек может быть честным и справедливым без бога», — считает отец. Батюшка угрюмо усмехается. «Ненадежная, — говорит он, — честность и случайная без бога справедливость». Он встает и уходит.
Мать почему‑то очень жалеет батюшку. «Ничего, еще не весь жир порастряс!» — замечает отец. «Ну давай теперыча после буржуев всех толстых да жирных в расход!.. Страдает батюшка. Страдает за веру, за церковь. Почитай, всю жизнь церкви отдал», — возразила мать. «Он о душе человеческой мается», — как бы сама себе, и не надеясь, что поймет ее неверующий отец, добавила она. «Вон Гаврил Сотский, комнезамовский председатель — кожа да кости, ни кола, ни двора, он человеку помочь способен? Он себе всю жизнь не помог, где уж людям!»
Отец хмурится. То ли слова материнские ему не нравятся, то ли вообще то, что думать начала…
Одиноко батюшке в его большом доме. Вот и ходит в гости к нам. Елизавету его — даже мать считает дурой и скрягой. Фасолины в горсти считает.
…Зажав в кулаке медяки, бегу я за «рыковкой» для отца. Когда возвращаюсь, отец нетерпеливо ждет меня у порога, выхватывает из моих рук четвертинку. Ничуть не стесняясь батюшки, тут же вышибает пробку ударом ладони о дно бутылки. Отец теперь даже не переливает водку в свою пляшку. Пьет прямо из горлышка. Правда, этому предваряют несколько резких вращательных движений рукой с бутылкой. Последние капли жидкости, запрокинув голову, отец тщательно стряхивает себе в рот.
— Вот так!.. Винтом, опрокидонцем — глотком и пропихонцем, — с наигранной, неидущей к нему похвальбой говорит отец, с пристуком ставя на стол пустую бутылку.
— А для чего вы все, в самом деле, бутылку крутите… перед этим? — вяло спрашивает батюшка.
— Как же! Жидкость внутри вся вращается, винтом, значит! Воздух входит от этого в бутылку и водочку выталкивает!.. Физика! — отводя в сторону глаза, отец охотно объясняет питьевую механику непьющему батюшке.
Мать, прослушав эту физику, вдруг разрыдалась. Она в присутствии батюшки куда храбрей обычного. «Все пропил, все на водку извел! — жалуется она батюшке. — Уже с осени придется нам зубы на полку. А зима? С голоду подохнем… Вот она у нас какая физика!..»
Батюшка слушает, не перебивает мать, укоризненно взглядывает на отца. Отец, переступив деревянной ногой, смотрит в окно, на грушу, будто впервые ее видит.
— А я к тебе, Карпуша, за делом. За хорошим делом, — говорит батюшка.
— Али в дьяконы меня?.. Али в псаломщики?..
Не обращая внимания на ёрничание отца, батюшка морщится, смотрит на него сожалеючи. Издалека начинает он. На днях помер скорняк Данила. «Помер Данила — рада могила», — вставляет отец. Батюшка говорит тихо и укоризненно: «Не кощунствуй, Карпуша». Терпение — главная доблесть пастыря духовного. Выждав, чтоб отец смолк, батюшка со значительностью в голосе продолжает. Данила был хороший мужик, золотые руки. Осталась баба хворая, двое ребят малых. А овчина в дежках киснет, перестаивает: вот–вот шерсть вылезет. Какой убыток! Овчина чужая, заказов понабрал Данила. Баба хоть и хворая, а дело знает. Кого хочешь обучит, что к чему покажет, к делу приспособит. Да что там говорить, — Карпуше ли не осилить эту науку! И бабу от позора спасет, и мужики, которые жалуются, убытку не понесут. А главное — ремесло в руках будет. На зиму заработает — и хлебом, и деньгами.
Отец хоть и «выиграл полбутыль», как мать говорит, хоть глаза у него соловые, а внимательно слушает батюшку.
— Так что, поговорить мне?
— А чего ж не поговорить… Батюшка, — ухмыльнулся отец. Называя так попа, отец всегда смеялся ему прямо в глаза. Тот же, наоборот, делал вид, что ничего этого не замечает.
— Иди, Карпуша, к бабе Данилы, скажи — от меня. Я уже все обговорил, — только сейчас глянул на мать отец Герасим.
…И запахло у нас в доме прокисшими отрубями. В трех кадушках в закваске из отрубей, в сенцах, томятся овчинные шкуры. До поры, когда им надлежит быть извлеченными оттуда, просушенными, прочесанными для дальнейшей обработки. Целыми днями отец колдует над шкурами, скоблит их, мнет, белпт–надраивает мелом. Самая трудоемкая операция — скобление. Ножом, похожим на тяпку без держака, но вправленным в чурку и с дыркой для среднего пальца, отец соскабливает со шкур потемневшие полосы жира. От этого жира отец сам стал — кожа да кости. Работа требует, однако, не только силы, но и ловкости. Одно неточное движение — и острый нож, вместо жира, чиркнет по шкуре, нанесет ей длинную, точно ударом сабли, рану. Отец тогда поминает бога, черта, архангелов, каналью–поручика Лунева и еще почему‑то «вшивый астраханский полк».