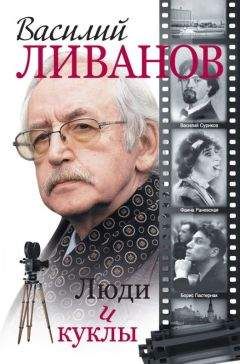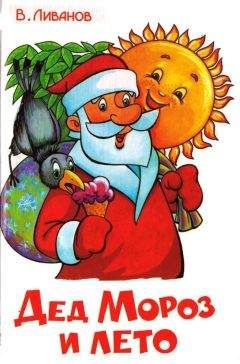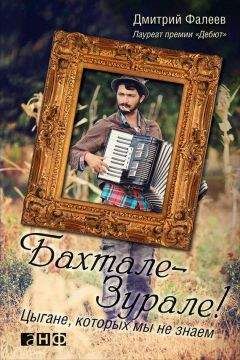Александр Ливанов - Начало времени
Едва я очутился на лошадиной спине, тут же Турок от всей души дал батога своей кобылке. Как остервенелая, выскочила она из двора кузни… Вслед доносится сатанинский хохот Турка.
Всю дорогу Буланка рысит, не обращая ни малейшего внимания на своего седока. Она, судя по всему, хорошо знает дорогу к водопою, потому что поворачивает где надо и бежит напропалую. Вот мы миновали лавку Йоселя, мазанку, где помещается сельрада.
Я озабочен одним лишь: как убавить прыть кобылки и перевести ее на шаг. Судорожно вцепившись в гриву, я съезжаю то на один бок, то на другой. Вот–вот свалюсь. Тпру, Буланка!..
Словно взбесилась Буланка; она мчит к воде, все убыстряя и убыстряя галоп. Уже песколько раз я чуть–чуть не свалился, но каким‑то чудом все же удержался за гриву. Буланка потряхивает сухой костистой головой с глубокими ямками под глазами. Она раздувает ноздри, громко екает селезенкой. Куда делась покорность в глазах кобылки! Весь гнет и унижение от Турка, все свои бесчетные обиды она решила выместить на мне! Она признает лишь право силы. Я должен смириться перед ее властью надо мной, как она смирилась с властью Турка над нею. Буланка до того замордована тяжелой работой и бескормицей, что обычно на кузнечном дворе, где собирается много лошадей у коновязи, ни одного жеребца при виде ее не посещает любовное желание. Теперь Буланка мстит мне, ни в чем не повинному, за свою каторжную, голодную жизнь, в которой нет ни праздников, ни любви, ни потомства…
А вот уже скалистый, обрывистый спуск к воде — то ли к старице, то ли к обмелевшему речному рукаву. Он весь зарос кривыми сосенками и чахлым дубняком. Огромные острые скалы так и надвигаются на нас. Это сам образ неизбежности. Пощади меня, Буланка!..
Нет, Буланка, похоже, решила кончить самоубийством. А заодно погубить меня. Кобылка проклятая мчит прямо на скалы, — прямо на скалы!
Край обрыва, пять шагов, три шага… Неужели не остановится?
И вдруг вода, небо, скалы — все перевернулось в моих глазах. В последний миг между жизнью и смертью, последней вспышкой сознания: «Мама!»
Я лежу на полатях, укрытый маминой старой шалью. Шали я не вижу, я узнаю ее на ощупь, по кисточкам бахромы.
В хате нашей — доктор, настоящий доктор из города! Его привез с собой Марчук. Учитель ездил за тетрадями и привез с собой доктора. На нем золотые очки, у него белые, чистые руки, с длинными, подрагивающими — точно все время что‑то ищут — пальцами. Разбинтовывая голову, доктор щупает ее, спрашивает, где болит, а где — нет. Затем снова забинтовывает мне голову белой–белой марлей и достает из пиджачного кармашка часы на ремешке. Остроглазый и бледный, он теперь щупает у меня пульс, сверяет с часами, сосредоточенно щурится и думает. Две морщинки прорезали докторский лоб над прямыми светлыми бровями. Мне очень хочется рассмотреть часы, но доктор строго говорит мне: «Лежи спокойно». Мать с искательным лицом объясняет доктору причину моего беспокойства: мне интересно, мол, взглянуть на его часы — «он никогда не видел». Суровое лицо доктора добреет, он дает мне подержать часы. Он их не отстегивает от пиджачного кармана, а сам поближе наклоняется ко мне. Теперь я вижу и часы, и чистое бритое лицо доктора, пунцовое ухо, остро выступающую скулу. От доктора приятно пахнет чистой одеждой, лекарствами и душистым мылом. В глазах, в жестах его — сознание своего значения и силы. От него зависит — жить или умереть человеку. Доктор — бог на земле. Я держу часы, будто это не оперившийся желторотый воробышек, вывалившийся из‑под стрехи. Малейшая неосторожность может повредить его хрупкости…
У часов доктора — две серебряные крышки, белый циферблат и черные усатые стрелки. Одна стрелочка, тонкая и махонькая, как тощий комарик, снует по своему маленькому кругу. На внутренней стороне серебряной крышки — в кружочках множество печатей, изображений бородатых царей и осанистых цариц —один головы их. Закрываются часы — щелчком, открываются — щелчком; Будь у меня такие часы, я бы целый день только и застав–лял бы их щелкать крышкой! Доктор мне объясняет, как узнать время по стрелкам и перекрещенным черным палочкам, чем‑то мне напоминающим игру в «лопаточки». Чтобы изобразить прилежного и понятливого слушателя, я смотрю на губы доктора и, ничего не понимая, поддакиваю ему, и он остается вполне довольным мною. Что и говорить, если бы за каждым объяснением следовали бы зачеты, вселенский классный журнал успеваемости весь пестрел бы позорными двойками!..
Отец, успевший сбегать (на деревянной ноге не очень-то легко «сбегать»!) к батюшке, вошел в хату весь запыхавшийся, вспотевший, торжествующих!. Он вытирает ладонью лоб с впалыми висками, как у Буланки, и кладет шапку на лавку. Разжав кулак, он с победным видом выкладывает на стол пять двугривенных кружочков. Отцу кажется, что у лежащих кое‑как на столе монет недостаточно внушительный вид, он их укладывает аккуратным столбиком. Он подравнивает столбик и, улыбаясь, жестом магната приглашает доктора получить за визит.
Мельком взглянув на столбик, доктор решительно качает головой: не возьмет он денег!
На лицах отца и матери искренняя досада. Очень понравился им доктор. Они переглядываются: что делать? Теперь уже мать сама просит доктора взять деньги. Она, вероятно, надеется, что женщине трудно будет отказать.
Доктор говорит «нет, нет!» —неуверенно улыбается матери и, прижав руку к сердцу и крутя головой, опять решительно отказывается. Он, мол, к нам заглянул по пути: он приехал на визит к жене Терентия. Он очень просит мать не настаивать и даже кончиками пальцев касается плеч материнских.
Мы знаем, что жена Терентия и вправду хворает, но что к нам доктор «заглянул по пути» — эту святую ложь даже я понимаю. Доктор успокаивает нас, чтобы мы не тревожились: все это пустяки…
— Вот какие люди есть на свете! Вот это — интеллигент! — будет потом долго вспоминать доктора отец. Странный человек отец! Такой требовательный и неснисходительный к слабостям людским, он чуть ли не до слез растрогается чьим‑то добрым поступком. У моего злого отца — чувствительное сердце! И чужого отец не любит. Всегда мать учит: «взяла горстку — отдай жменю». И еще: «пусти по реке свою корку — вернется к тебе караваем».
На голове у меня марлевые бинты — настоящие, первые в моей жизни бинты! Андрейка и Анютка стоят возле печи, тоже во все глаза смотрят то на мои бинты, то на городского доктора: на его золотые очки и серебряные часы на ремешке, черное суконное пальто с серым каракулевым воротником и такую же двугорбую шапку, наконец, на докторское белое шелковое кашне. Пальто, шапка и кашне лежат на лавке, потому что вешалки у нас в ха! е не имеется. Да и зачем она? Вся одежда на нас, либо на полатях!
Доктор одевается. Натягивает кожаные перчатки и еще раз наставляет мать — как и когда мепять повязку. Затем доктор как бы что‑то вспоминает, выпростав правую руку из перчатки, достает из кармана записную книжку и красивый желтый и очень тоненький карандашик. У стола стоя, пишет он рецепт. «Если будет гноиться рана, — говорит доктор матери, — получите в аптеке эти примочки. Денег не потребуется. Я тут все написал».
И, взяв саквояжик, доктор идет к дверям. Он высокий, и ему приходится наклонить голову, чтобы не задеть двугорбой каракулевой шапкой за верхнюю перекладину дверной коробки.
Андрейке и Анютке сразу стало не до меня — они тут же шмыгнули в дверь за доктором. Они проводят его до двора Терентия. Городской человек, что подаренная игрушка, что забава для сельских ребят.
— Ну вот, сынок, доктор сказал, что рана хорошо заживает, — присаживаясь на краешек полатей, ласково смотрит на меня мать и наклоняется к моему лицу. — Большая рана была…
И мать рассказывает, как красноармеец с кордона принес меня домой без «всякой сознательности», потому что, упав с лошади, я порядочно пролежал на камнях, что много крови потерял…
Я нащупываю руку матери, держу ее, чтоб мать не ушла. Я не думаю ни о ране, ни о боли. Я весь переполнен мамой, в ней суть и значение всего окружающего мира, непостижимого и ослепительного. Мать в доме — я счастлив, мать из дому — пет мне утешения. Часы ожидания — я не живу, они вычеркнуты из жизни. Весь пленительнокрасочный, зеленый мир, полный чудес и тайн, становится пустым, едва мать оставляет меня одного. Я должен постоянно узнавать ее голос, слышать ее шаги, шорох юбки. Мать трогает мои волосы, я чувствую движение ее пальцев, и мне кажется вот–вот сердце мое разорвется от любви к маме. В любви этой — острая и беспомощная детская жалость, беспредельная грусть, неосознанное желание — вырасти, стать сильным, чтоб всегда уметь защитить и порадовать мать…
Дабы я имел представление о размере моей раны, мать говорит, что «целый носовой платок влез в нее». Она показывает мне этот красноармейский носовой платок — он похож на комок спекшейся крови. «Постираю и отнесу красноармейцу, который тебя подобрал на обрыве. Как грудного, на руках домой тебя принес». Пальцы матери еще судорожней перебирают мои волосы, на мою щеку падает горячая материнская слеза.