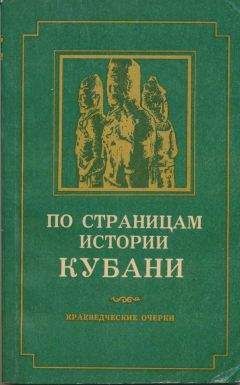Музафер Дзасохов - На берегу Уршдона
…Голос Нана разбудил меня на самой заре, я еще сладко спал.
— Да встанешь ты наконец?! На базар к обеду собираешься?..
Я накинул веревку на рога Фыдуаг и вывел из сарая. Дунетхан выдоила ее лишь наполовину, пусть телочке больше достанется. Телка идет за мной неохотно. Эх, знала куда — сбежала бы, наверно. Удивляется, что так рано выгнали. И Фыдуаг удивляется, почему совсем не в ту сторону идем? Ничего они сегодня не поймут. И вечером не поймут: где их прежние хозяева, где знакомые ворота? Что такое случилось, что ничего-ничего не узнать?..
Нана верно сказала, что найдутся попутчики: не одни мы шли на базар. И не из Джермецыкка — из дальних мест. Совсем рассвело. Как и мы, многие гнали скот на продажу. И я втайне обрадовался: может быть, у нас не купят, и мы вернемся с коровой. Гнали скотину куда крупнее Фыдуаг, и вряд ли, думалось мне, позарятся на нашу коровенку…
На скотном базаре я нарочно выбрал место рядом с большой коровой. Пусть Фыдуаг кажется еще мельче, чем на самом деле.
Отовсюду слышалось мычание коров, блеяние овец, гусиный гогот, хлопание крыльев. Тот, кто приехал на телеге, оказался умнее: он или сена, или кукурузных стеблей захватил с собой, его скотина не голодная стоит.
Фыдуаг не успели покормить, рвет привязь, мычит, тянется у чужой подводе. Хозяин сказал мне:
— Да отвяжи ты ее, пусть немного пожует. Мой теленок все равно уже не ест.
В телеге сена еще с охапку, и Фыдуаг жадно набросилась. Подошло несколько покупателей, постояли, поглядели. Никто коровой не заинтересовался. Наверно, только приценялись. Как скажу две восемьсот, так сразу в сторону. Может, цена слишком высокая? Я ведь к двум с половиной еще от себя набавил триста. Дунетхан вначале удивленно посматривала на меня, но сказать ничего не сказала.
Какой-то коротышка подошел, пощупал вымя Фыдуаг.
— Сколько просите за этого козленка?
Говорят, Сатти смеялся над Батти: какой, дескать, ты маленький! А самого от земли не видать.
— Две с половиной, — ответил я.
Назвал цену Нана, потому что две восемьсот правда многовато. Столько за нашу корову никто не даст.
Коротышка со всех сторон обошел Фыдуаг и остановился передо мной:
— Две тыщи!
— Две с половиной, — твердо повторил я, — и ни рубля меньше.
— Нет?
— Нет!
Долговязый старик давно не спускал глаз с нашей коровы, ждал, когда уйдет верткий коротышка.
— Сколько, ты говоришь? Сколько за корову? — спросил старик.
Я почему-то его испугался. Неужели купит, денег не пожалеет? На вид ему было лет семьдесят. Лицо заросло седой щетиной, наверное, неделю бритву в руки не брал. Шея и лоб красные от загара. Он снял с головы фуражку, вытер ярко-красным платком, величиной с наволочку, пот со лба, с шеи, промокнул морщинистый кадык. Вытер фуражку изнутри и спрятал платок в карман коричневых галифе. Живот у него свисал через ремешок, которым старик был подпоясан, — так что и пряжки не видно.
Старик провел ладонью по кустистым бровям и переспросил:
— Какая твоя цена?
— Две восемьсот.
— Ну да? Даже еще и восемьсот? — Брови старика сошлись над переносицей. — Ты ведь только что две с половиной просил!
— Я ошибся.
— Слушай-ка, дорогой, вот тебе две четыреста!!! Шагай домой и радуйся. Посмотри, твоя сестра вся посинела от холода. Больше моего вам никто не даст.
— Ничего, даст.
— Не даст, говорю тебе! Это очень хорошая цена. Кто хотел купить, уже купил. Видишь, базар расходится?
Людей в самом деле стало поменьше. Многие собирались домой, привязывали к телегам непроданный скот.
— Ну как, дорогой? — помолчав, снова спросил старик.
— Я не отдам за эту цену.
— Тогда счастливо оставаться!
Недоволен… Еще бы! А я радовался. И Дунетхан облегченно вздохнула, когда старик отошел.
В прекрасном настроении мы возвращались домой. Когда миновали Уршдон, я снял веревку с коровы: не надо тянуть за собой, теперь сама дорогу найдет. Домой идем!
— А знаешь, — сказала Дунетхан, — я утром помолилась. Посмотрела, как Нана молится, и сама…
— А зачем?
— Чтоб Фыдуаг не купили.
Я обомлел:
— Так ведь и я молился! Я и цену дорогую просил, чтоб не продать.
— А я сразу поняла. Только боялась, что старик тебя уговорит.
— Я и сам боялся.
Дунетхан очень любила Фыдуаг, она и эту кличку ей придумала. Фыдуаг — баловница по-нашему.
Не понять, кто больше радовался — мы или наша Фыдуаг. А теленок-то — как он бежал за матерью, подпрыгивая и брыкаясь! Мы едва поспевали.
Только Нана осталась недовольна.
— Надо было отдать за эту цену. У бедняка и цену ценой не назовешь… Что теперь делать? Одно несчастье за другим!
— Откуда ж мне было знать?
— «Откуда, откуда»! Ты теперь в доме за мужчину, должен сам решать. Не думала, что таю получится, не предупредила заранее… Деньги вам пригодились бы! Все ваши заботы на одной ниточке держатся…
За что она ругает меня? Как велела, так и делал. А чего не велела, не делал.
— Недавно Канамат приходил, — сказала Нана. — Узнал, что корову продаем. Я ему: опоздал, утром на базар повели. Может, еще придет.
Да пусть уж лучше Канамат купит! Хоть в стаде увидим свою корову.
Канамат явился на следующий день. Фыдуаг ему понравилась: зовут Баловница, а спокойная. Канамат это знает.
С Нана они быстро сговорились.
— Какую цену положите, такую и дам, — сказал Канамат.
— А как решили Бимболат с Гажматом, такая и остается. Две тысячи пятьсот.
— Ну и хорошо. А я еще тридцатку добавлю. От себя.
Когда уводили Фыдуаг, дома никого не было, кроме Нана.
Чтобы корова привыкла к новому месту, хозяева несколько дней не выпускали ее в стадо. А когда выпустили, то вечером с пастбища она пришла под наши ворота. Я Фыдуаг по голосу узнал: встала возле ворот и мычит протяжно, зовет. И в глазах столько боли, обиды, что мне стало не по себе. Казалось, она упрекает.
Раньше, бывало, силой не загонишь, а теперь сама просится, да не впускают. Как это так?
Я нарвал травы в огороде и стал кормить через калитку. Потом неосторожно приоткрыл, и Фыдуаг ворвалась во двор. И прямехонько к хлеву. Домой! С трудом Канамат увел ее.
И так каждый вечер: придет, встанет у ворот и мычит жалобно. Она и к своему теленку стала равнодушна.
Нана увидела, что я корову прикармливаю, и набросилась на меня:
— Тебя что, камнем пришибло? Что ты издеваешься над Канаматом? Он ее старается к дому приучить, а ты в другую сторону тянешь. Лучше бы своей корове травы нарвал!
Бедная Фыдуаг! Вот уже и чужой стала… И калитку нельзя отворить! А она-то, наверное, думает, в чем же я провинилась, что домой не пускают, всегда сама приходила, молоко стала давать хозяевам на год раньше срока… Теперь стала не нужна? Нет чтобы в хлев завести, так еще и прочь гонят! Вот как хозяева переменились, никто не пожалеет!
Никого не трогает чужая беда. Ах ты бедная, бедная Фыдуаг! Мычать устала, стоит перед воротами, опустив голову.
Не открывают, не хотят впустить. Приходит Канамат или кто-нибудь из их дома и угоняют. Какое им дело до чужих страданий: скотина и есть скотина… А ну пошла! Еще и веревкой огреют. Вот какая невеселая жизнь!
XXVIII
Нана все чаще выходит на солнышко — погреться. Как лето наступает, ей лучше. Увидят ее женщины на крыльце, подойдут, сядут рядышком на ступеньки — она над ними возвышается, как царица. Больше всех меня удивляет Кыжмыда. Ничего не слышит, а просиживает часами. Сидит молчком, шерсть теребит. Потом, ни слова не сказав, поплетется домой, согнувшись. Спустя некоторое время возвращается — с какой-нибудь новой работой…
Солнце уже высоко. Печет. Надо за теленком посмотреть — как бы не перегрелся, ничего еще не смыслит. Он пасется вместе с телкой Фыдуаг. И домой вечером вместе приходят. А где сморит их жара, там и разлягутся. Под акации в тень не сунешься, хотя лучшего места не найти: Гадацци владения, увидит чужую скотину — хватается за камень потяжелей. Жалко ему, что место пролежат, а живое калечить — не жалко…
Телята лежали под нашей ивой. Отсюда никто не прогонит. Я тоже растянулся рядом на земле. Ива стоит между нашим огородом и огородом Куцыка. Земля тут сырая, вокруг ивы ничего не растет. Только хмель вьется по стволу и повисает на ветках гроздьями. Дзыцца пиво из него варила. И в этом году хмель уродился на славу. Осенью надо будет оборвать, с соседями поделиться. Конечно, пива нам теперь не варить — некому, но собрать хмель все же надо. Соберу, как прежде, в мешок и отнесу на чердак сушить…
Лето я больше всего люблю. Трава в полном росте, густая, пахнет мятой, легкий ветерок пробегает по лицу… На нашем участке растет «сонная трава», мы называем ее «такуындела», пожуешь, сняв кожицу, и потянет в сон. Я однажды принес домой. Дзыцца затеяла пироги, но поела этой травы и до утра проспала. Так и перестоялось тесто. С тех пор к «сонной траве» я не притрагиваюсь.