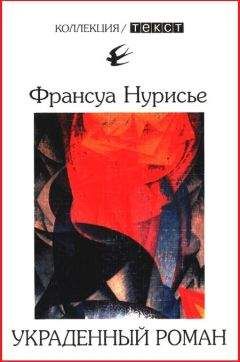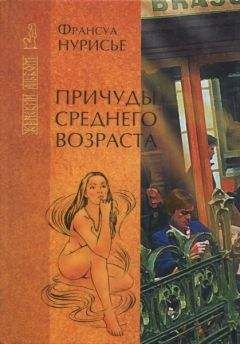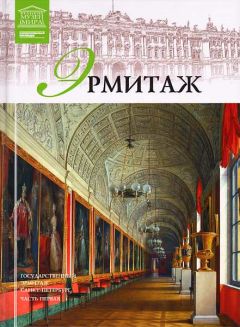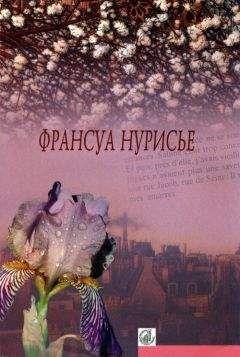Франсуа Нурисье - Хозяин дома
Так и нашла нас Женевьева, когда поднялась по лестнице: я скорчился на площадке, прислонясь спиной к стене, сомкнул руки вокруг Польки и ревел как маленький, ревел так, что уже не мог отвечать на вопросы, и тогда произошло вот что. Знаете эту игру, когда начинаешь притворно хныкать, чтобы верный пес прибежал тебя «утешать»? Польке удалось кое-как перегнуться ко мне, она дотянулась до моей физиономии и принялась старательно слизывать с моих щек, с носа, с подбородка слезы, которые я проливал над нею, а быть может, над нами. Женевьева опустилась на пол рядом со мной и расширенными глазами смотрела на нас.
— Паралич, — сказал я ей, — спина наверняка парализована…
И Женевьева, как прежде сделал я, положила ладонь на Польку, которая больше не дрожала.
Быть может, здесь уместно на минуту остановиться и молить о снисхождении? Этажом ниже, в полусотне шагов от лестничной площадки, где рассказчик убаюкивает Польку (он признается, что никогда не решался на такие нежности ни с кем из детей), — итак, этажом ниже приготовлены, премило убраны и с большим вкусом заново обставлены две комнаты, обращенные на восток; по всему видно, что во время недавних работ здесь позаботились о каждой мелочи. Одну комнату окрестили «комнатой Беттины», другую — «комнатой мальчиков». Через несколько дней (паралич разбил собаку незадолго до 15 июля) в этих комнатах поселятся трое детей; всем вместе им тридцать шесть лет, а главное — надо думать, надо надеяться — на них-то и сосредоточены чаяния и надежды, любовь и нежность, все, что не принято оставлять только для животных. Таким образом, пожалуй, замечается некоторое несоответствие между трогательной сценой (Полька) и видимым равнодушием к будущим обитателям этих двух комнат (дети), некоторый разрыв, способный омрачить чувствительные души. Стало быть, нужно объясниться.
Даже самому сухому сухарю, даже тому, кто начисто не способен высказывать свои чувства и стесняется пылких порывов, самому закоренелому холостяку, самому замкнутому отшельнику, себялюбцу, неуклюжему медведю необходимо хоть изредка перевести дух. Одиночество — как погружение в воду: окунешься и на время останешься под водой, но порою надо и вынырнуть, глотнуть свежего воздуха. Я знаю, о чем говорю.
Иные плохие отцы прекрасно умеют ладить с чужими детьми: тут им хватает смелости. Иные холодные любовники или мужья в автобусе оказываются любезными кавалерами. Ну и так далее. Мне тоже нужна законная доля нежности. И тут мне помогает Полька, ее я обнимаю не стыдясь, она с такой милой беззаботностью засыпает, растянувшись подле меня во всю длину. Полька мне помогает, ведь так ясно, что я ей нужен. Иные люди к старости с головой уходят в свою скорлупу и в животных, укутываются уединением, точно дорожным плащом, и доживают свои дни в едком запахе шерсти и мочи, в горьких и нелестных мыслях о роде людском. Могу ли я сказать, что понимаю их и сочувствую?.. На крутом повороте так легко соскользнуть от одиночества к человеконенавистничеству. Мне по душе, что такие чудаки души не чают в своих кошках и собаках. Мне по душе домишки в пригородах, неприветные, недоверчивые, ощетиненные предостерегающими надписями — не подступись! — где плодятся фокстерьеры, злющие персидские коты, а то и мартышки или белые мыши. Мне по душе нежность, которую питают эти старые сумасброды к своему зверью, потому что я знаю — твердо, сокровенно, знанием, запрятанным в глубочайших тайниках моего существа, — как трудна нежность. Почти неосуществима. Неблагодарная роль. Безнадежное предприятие. Вот так. Полька ничего ни у кого не отнимает. Полька не станет выставлять напоказ ни своих нахальных поклонников, ни заковыристые вопросы, которые достались на экзамене. Полька не старается, как Ролан, на прогулке ни к селу ни к городу заводить высокоумные разговоры. Я кладу руку ей на грудь и ощущаю неистовый трепет жизни; смотрю, как дружелюбна и естественна она в каждой своей затее, — и это примиряет меня с тем, что приходится видеть вокруг; кто же чувствует себя оскорбленным, кого тут предали? Полька царит в том уголке моего сердца, который слывет недосягаемым для людей, однако их удары проникают и сюда, и от этого больно, так больно… По этой боли можно удостовериться, что я и вправду член нашей семьи… Все ли вам ясно?
Два часа ночи. Ветеринар — вернее, его заместитель, который сообщил нам, что доктор Альдебер уехал отдыхать, — по телефону невнятно нас обругал. Женевьева спросила, как он советует, можно ли дать лекарства, которые у нас под рукой, он ответил: «Один черт», — и повесил трубку.
Когда я хотел уложить Польку на кровать, она заскулила еще жалобней. В глазах ее выразился ужас: без сомнения, здесь-то ее и настигла беда. Она поползла было в сторону ванной. Я отнес ее туда, и она долго, жадно пила. Ее опять стало трясти. Тогда я лег рядом с ней прямо на полу, укрылся одеялом и край его натянул на согнутую руку, так что над собакой получилось подобие шатра.
Она, видно, не могла толком сомкнуть веки, должно быть, глаза налились кровью. Дрожь унялась, но изредка все тело сотрясала внезапная судорога, задние лапы оставались вытянутыми, мышцы словно окоченели. Так вы глядят освежеванные кролики, чьи тощие ноги будто навек застыли посреди прыжка. Обессиленную, ее клонило в сон. Короткие спазмы уже не выводили ее вполне из этого оцепенения, которое могло незаметно завершиться смертью. Женевьева сидела на корточках подле меня. Я все гладил Польку по спине — медленно, размеренно: это была и ласка, и массаж, самый бережный способ показать ей, что она больше не одинока в беде. Время длилось, длилось, порой его разбивал на части колокольный звон. Женевьева погасила свет, осталась только одна лампочка в коридоре. Мы не обменялись больше ни словом, но нам стало спокойнее.
Быть может, я задремал? Вдруг до меня дошло, что Полька пробует пошевелиться; она повернула ко мне голову, потом протянула ее в темноту. Я спустил ее на пол, и она потащилась к двери, невыносимо было смотреть, как она силится ползти. Опять я начал расспрашивать ее, подбодрять словами. Потом отнес ее к лестнице, и тут она коротко тявкнула. Тогда, как бывало уже столько раз в эти ночи, я стал босиком спускаться с лестницы, но теперь я прижимал к себе Польку, скрюченную, смятую недугом, а ведь она была такая длинная и так этим гордилась! Завидев дверь, ведущую во двор, она снова тявкнула. Женевьева отворила дверь. Я поставил собаку наземь у самой травы. С неба падали крупные теплые капли: подступала гроза, которой ждали весь день, вдалеке вспыхивали молнии. Полька сделала два или три неуклюжих шажка, чуть присела и помочилась в какой-то нелепой позе, закинув к нам голову, заложив уши назад. И повернула обратно, двигаясь словно бы чуть свободнее. Но у порога остановилась, и ее опять начала бить дрожь. Мы отнесли ее наверх, осыпали похвалами и ласками, точно щенка, которого впервые приучают к чистоплотности.
Немного погодя стало светать. Над пустошью на горизонте прорезалась огненная полоска. Женевьева уснула, но я слышал, как она стонет и тяжело ворочается во сне. К семи утра мы были уже на ногах. Полька, завернутая в одеяло, куда мы сунули грелку, внимательно следила за нами.
Небо, промытое ночной грозой, обещало ослепительный день, когда около восьми мы позвонили у двери ветеринара.
Будьте уверены, я и сам додумался, только про это его, пожалуй, всего трудней было спрашивать. Вы уж, верно, поняли, с таким человеком говорить не просто, он вам навстречу не пойдет. И заметьте, вообще-то ничего тут неловкого нет, всякого можно спросить, чем он занимается… Но это вообще, а вот с ним… Все равно как про детей. У нотариуса, когда подписывали купчую, я вдруг подумал, как же так. Ничего не сказано, какая у него профессия. Он даже засмеялся, когда про это помянули, — пишите, говорит, «собственник», как при Луи-Филиппе… Так что ничего я не узнал. Ладно. Конечно, мадам Фромажо, супруга моя, толковала что-то про телевидение, но мало ли кто там выступает — и профсоюзники, и политики, и про вулканы, и какой-нибудь круглый стол, почем я знаю. Она-то на артистку смахивает. А насчет него я вам скажу, деловые люди не ходят с волосами чуть не до плеч, да еще с немытыми… хотя все на свете меняется. Киношник? Им в такую глушь зарываться ни к чему. Набрался я храбрости. Он был в духе, как захохочет. «На все руки, — говорит. — Дорогой мой Фромажо, я писатель на все руки». Потом, верно, по лицу понял, как меня огорошило. И давай объяснять, даже очень любезно. Только я все равно почуял, что сунулся куда не надо, что это тема опасная. Тут и она подошла и стала слушать. Я, мосье, не такой уж психолог, но неловко стало до того — дышать нельзя… А дело было в гостиной. Я к ним почему пришел — надо было дать ему подписать бумагу насчет общности владения. И вот он то ли злится, то ли измывается — поди пойми! Мол, будьте покойны, Фромажо, я работаю. Не святым духом живу. Точнее, как это называет моя жена, она иногда не стесняется в выражениях, я мараю бумагу. По заказу мараю. На высокие темы. И тут он пошел сыпать всякими штучками, затрудняюсь вам пересказать. Чего только не наговорил — тут и герцог де Линь[6], и девичьи сердца, и какие-то виллы неведомо где, и Верден, и отцовские тревоги… Как плотину прорвало. Чувствую — вроде он шутит, а вроде это и правда. Я прямо не знал, куда деваться. Не помню к чему, а только я вам уже говорил — никогда не известно, чего от него ждать. Кажется, просто валяет дурака, а если вдуматься в эту его болтовню — все верно. Но до чего умеет сбить с толку! Ввернешь словечко о том о сем, не успеешь разойтись, хвать — он уже перескочил на другое… Мол, вы думаете, Фромажо, я человек состоятельный? Ошибаетесь, мой дорогой, ошибаетесь. Просто я изворачиваюсь, как все на свете. Первым делом смотрю, на сколько выписан чек. (Об этом я тоже не забываю, будьте уверены). Они меня, видите ли, не поймали. Слишком поздно. Тантьемы[7], жетоны, проценты, четырнадцатый месяц… (Я вам все это пересказываю вперемешку, с пятого на десятое. Я ж говорю, как плотину прорвало. А она как ни в чем не бывало подает нам выпивку. Да-да, она подливала масла в огонь!) Хорошая жизнь — это как автобусная линия… Адреса. Кварталы. Адреса один другого лучше. Думаете, конечная станция — Порт Дофин? Нет, дружище, конечная станция — Левый берег. Дом — первый класс, господин агент по продаже недвижимости. На парадной двери резьба… Наяды, тритоны… А теперь — сами видите… (И он обвел рукой гостиную — гляди, мол: по стенам драпировки еще толком не натянуты, висят кое-как, кресла эти, всё малость колченогое, потрепанное, чего уж там, в их вкусе, верней сказать, в их духе). Согласитесь, если каждого юнца спрашивать, где он хочет быть первым, в деревне или в Париже, так в провинции не останется ни одного великого человека! И вот таким манером — двадцать минут без передышки. Винегрет какой-то — и похвальба, и колкости, и печальное, и потешное. Сам я был не в своей тарелке, про это уж и не говорю, влезли бы вы в мою шкуру, а главное, за нее душа болела. Но у нее и выдержка же! Умеет женщина владеть собой, ничего не скажешь. Преклоняюсь. Мне и четвертой части не пересказать, что он наговорил. И про двоюродного брата, который взял верх в какой-то семейной тяжбе. И про Флобера, который что-то там написал. И про орден Почетного легиона, вот, мол, некоторые с орденами, а переходят на сторону рабочих, голосуют за независимых… Попробуй тут разберись, что к чему. По чести вам скажу, у меня и охота пропала разбираться. Во-первых, от этой его дурацкой болтовни у меня голова кругом пошла, а во-вторых, возле меня на столике лежали газеты. Я одну прочитал, там была заметка про благоустройство Лангедока. Тут он стал зубоскалить, и я так понял, что он, верно, сам пишет в газетах. Что ж, по-моему, это не позор. Ну ясно, кто в бульварных листках промышляет, тем я не доверяю. Это все вранье и вымогательство. А есть солидные журналы, роскошные, в такие писать не стыдно. Собрался я уходить, чувствую, голова кружится, и никакой больше охоты с ним рассуждать. Вот так-то! Простились мы в тот вечер довольно холодно. Пошел я и чувствую, смотрит она мне вдогонку огромными своими глазищами, прямо насквозь спину буравит. С лестницы сходил — цеплялся за перила. Не помню, как очутился за рулем, чудеса, да и только. Сами знаете, каково это — натощак. Короче говоря, он журналист или вроде того. Очень может быть, что и по телевидению выступал. Мадам Фромажо, супруга моя, будет весьма довольна.