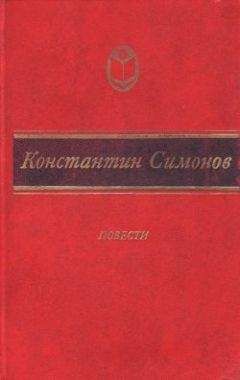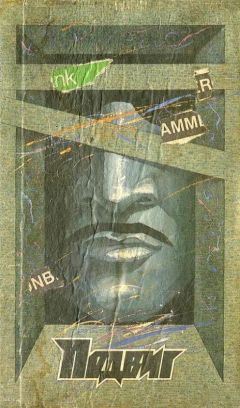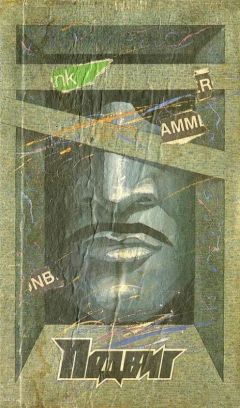Григорий Глазов - Не встретиться, не разминуться
— Силаков.
— За деда, значит? Все равно надо стать в очередь.
— Он стоит за мной, товарищ Кононов. Чего набросились на парня? А если дед его не в состоянии прийти? — сказала женщина в зеленой кофте. — Вы бы лучше, как член совета ветеранов, сходили в торг, там пошумели. Почему в Красноказачьем районе мясо как мясо, а нам кости возят? Там и печенку на прошлой неделе давали, рыбу свежую завезли, а нам мороженую.
Очередь загалдела, об Алеше забыли, переключились на товарища Кононова. Тем временем Алеша придвинулся к конторке.
— Номер? — спросила деваха в халате.
— Вот, — он протянул новенький пропуск.
Она порылась в картотеке, нашла еще не измятую чистенькую карточку.
— Силаков Алексей Юрьевич? Ты что же, не за деда берешь?
— За себя, — спокойно сказал Алеша.
Она поняла, поднялась, здоровенная, плотная, крикнула:
— Эй, люди, парень-то за себя берет, «афганец» он. И не балобоньте, работать мешаете.
Кто-то все же сварливо сказал:
— Мы тридцать лет ждали льгот, а им сразу.
— Что выписывать? — спросила деваха.
— Не знаю, — растерялся Алеша. — Что там положено?
— Мясо, сгущенка, гречка, кофе, сыр, консерва-лосось, кукурузное масло…
— Валяй подряд, — осмелев, махнул он рукой…
Потом с талончиком Алеша стоял к прилавку. И те же люди, обозленно наскакивавшие на него, уже притихшие, поглядывали сочувственно, женщины старались помочь уложить продукты в сумку. И какая-то с распатлавшимися седыми волосами, тяжело и часто дыша, сказала ему, будто товарке:
— Завтра должен быть изюм, кажется, импортный, без косточек, и бананы.
Он кивнул благодарно и заторопился к двери. Скорей бы отсюда, из этого страшного музея! И тут вошел парень, и сразу заулыбался навстречу:
— Алеха! Силаков! Ты, что ли?!
— Сашок-Посошок! — узнал Алеша бывшего одноклассника, до восьмого учились вместе, потом тот переехал в другой район города, последний раз виделись на призывном пункте.
— И ты сюда попал? — понимающе весело воскликнул Посошок. — Вот где теперь встречаемся! — смеялся он, видимо, привыкший уже к магазину, к положению равного среди стариков-инвалидов, к этим смолоду, как он и многие его ровесники, избитым, переломанным, а ныне ворчливым, быстро озлобляющимся людям, чьи увечья, культи, шрамы, протезы прикрыты одеждой. — Если не спешишь, покалякаем.
— Давай! — Алеша прошел в другой, пустой конец зала, где стоял столик и три кресла. Сел, вытянул искалеченную ногу. Жал протез, нога болела от долгого стояния, но от встречи с Сашкой Прокопьевым — Посошком, с которым и дружбы-то особой не водил, душа отмокла.
Он издали окинул взглядом лица людей, желто-серые от белого жесткого света, выкрасившего на срезах колбасу в витринах-холодильниках в трупно-синюшный цвет. Алеша видел, как Посошок непринужденно, почти панибратски, свободно, улыбаясь, болтал со стариками и старухами, как они отвечали ему, словно сверстнику, уже признанному тут, как товарищу по судьбе.
— Ну все, отоварил, — наконец подошел Посошок, прислонив к стене сумки, рухнул в кресло. — Значит, и ты оттуда?
— Да, Сашок.
— Давно?
— Не очень… А ты?
— Уже полгода… Куда тебя долбануло?
Алеша подтянул штанину.
— Ясно… Высоко?
— Почти всю стопу отгрызли… А тебя?
— В брюхо… Под Кандагаром… А ты?
— Кишлак Малам-Гулям… Десантник?
— Нет, Алеха, сапер.
— Ошибся?
— Чуток, — засмеялся Посошок. — Работаешь, учишься?
— Еще гуляю. А ты?
— У бати в гараже завода «Рембыттехника». Батя там механиком. Я пока по ходовой… Там видно будет… Где бываешь?
— Нигде.
— Мы тут сбились в свою кучу, ребята-«афганцы», объединились. При ДК торгашей, возле кинотеатра «Салют», знаешь?
— И чем занимаетесь?
— Пока устав вырабатываем… Намечаем мероприятия. Ну что, отвалили? — Посошок поднялся. — Я на колесах, подкину.
— Собственная?
— Батина, по доверенности езжу…
Они вышли. У бровки стояла «Лада».
— Дай попробовать, Посошок, — нерешительно попросил Алеша. — У меня права есть. Я ведь и «броню»[2] гонял, и «УАЗ», и «двадцатьчетверку».
— А нога? — засомневался Посошок.
— Я попробую… осторожно.
— Не «поцелуемся» с кем-нибудь?.. Ладно, зажигай, — он протянул ключи.
Алеша поставил раненую ногу на педаль, от неуверенности и напряжения нервно задергалось под коленкой. Он завел двигатель, включил первую и стал медленно отпускать сцепление. И все-таки машину дернуло. Потом пошла мягче, проехали метров тридцать. Надо было воткнуть вторую, но нога плохо чувствовала педаль. Он взмок, по шее текло, пиджак был тесен, мешал.
— Нет, Посошок, боюсь, — сказал Алеша, паркуясь.
— Пойдет у тебя, Алеха, вижу. Надо потренироваться, — подбодрил Посошок, быстро с облегчением пересаживаясь за баранку. — Есть у меня знакомый инструктор в ДОСААФе. За полтинник он с тобой по вечерам месячишко поездит на учебной. И восстановишься, вот увидишь…
Алеша ничего не ответил.
17
Когда Юрий Петрович пришел домой, надел шлепанцы, облачился в старую фланелевую ковбойку, в которой пуговицы едва держались в петлях, Екатерина Сергеевна спросила:
— Будем обедать или подождем Алешу?
— Давай подождем… Я сегодня лягу в столовой, чтоб тебя не разбудить, мне завтра рано вставать, до пятиминутки главный зачем-то собирает. — Юрий Петрович знал странность жены: грохот ли на улице, телевизор ли орет, — будет спать, не слышит. Но если он, лежа рядом, шевельнется, а то встанет тихонько пойти попить воды (случалось, когда переест на ночь, особенно острого), Екатерина Сергеевна схватывалась от малейшего шороха: «Ты куда? — садилась, терла ладонями глаза, отводила сбившиеся на лоб пряди. — Лежи, я принесу…»
Вскоре пришел Алеша. Сели обедать, и тут зазвонил телефон.
Трубку сняла Екатерина Сергеевна.
— Здравствуйте! Мне Алеху, — попросил мужской голос.
— Сейчас… Тебя, Алеша.
— Слушаю, — он взял трубку.
— Алеха? Я от Сашки Панкратьева, инструктор. Ты поездить хотел?
— Да.
— Условия знаешь?
— Да.
— Давай в субботу к шести вечера. Автошкола возле политехнического. Спросишь Виталика. Привет…
— Кто это, Алешенька? — осторожно спросил Юрий Петрович.
— В учебке вместе потели, — он опустил голову, чтоб избежать дальнейших расспросов.
Родители переглянулись.
С расспросами он вообще покончил сразу. Одних обрывал, от других старался ускользнуть в иную тему. И родителей не пожалел, коротко изложил, что и как было, что с ним произошло, понимая, — необходимо, и завершил мягко-просительно, но как захлопнул наглухо дверь: «Папа, все это неинтересно. Главное ты знаешь. Эмоции сочинишь сам. Не могу я это расписывать. Не обижайтесь». Конечно, обиделись, притихли, у Екатерины Сергеевны проблеснула слеза, отвернулась. Но Алеша считал: через это надо пройти, перешагнуть, иначе конца сочувственным и утешительным разговорам не будет. И не обвинишь отца с матерью, не праздное любопытство. От выпытывающих взглядов и слов его порой мутило: домашние, соседи, его знакомые, знакомые родителей, школьные учителя, которых иногда встречал на улице или в булочной (школа была недалеко от дома). И всякий раз повторяй, повторяй, вспоминай, нового, чужого не придумаешь, а от своего, недавнего, едва отходить начал… Единственный, с кем можно, — дед. Сечет все с полунамека, спрашивает как бы между делом, не настырничает, не охает, не ахает, только кивает понятливо… Дед!.. Вот у кого можно отломить полста, чтоб заплатить инструктору! Из своей пенсии, которую отдавал в семью, трогать не хотел. Мама, конечно, заулыбалась бы, дала бы, но вокруг пойдет такой радостный крутеж от того, что мальчик возвращается к нормальным интересам, к жизни; возникнут беседы, проекты, теории. Папа начнет философствовать, одобряя, и всё — лишь бы угодить, лишь бы мальчик ощутил, как его любят, сочувствуют… А дело-то пустяк, как отстрелянная гильза…
18
Каждый месяц двенадцатого числа Петру Федоровичу приносили пенсию. В этот раз в замочной скважине торчала записочка: «Приносила, не было дома. Для вас есть з/бандероль, зайдите на почту».
«Что за бандероль? Да еще заказная…», — гадал он, идя на почту. Никакой переписки ни с кем не вел, разве что три-четыре открытки отправлял к праздникам.
Получив пенсию, пошел в сортировку за бандеролью. Она оказалась из Таганрога от Бабанова.
Дома, не сняв туфель, что с ним почти не случалось, Петр Федорович поспешил в комнату, разодрал оберточную упаковку и извлек толстую пачку бумаг, через два интервала забитых машинописью. Сверху скрепкой была прихвачена записка от руки: «Уважаемый тов. Силаков! Пишет Вам сын Бабанова Павла Григорьевича. Отец в больнице, ответить Вам не смог. Когда выйдет, да и выйдет ли вообще — не известно. На Ваше письмо с требованием доказательств могу содействовать лишь одним: посылаю рукопись отцовской книги — литературная запись сделана нашим местным журналистом. Отец трижды пытался ее издать в разных издательствах в Москве, но ему заворачивали: такие события, мол, не подтверждаются рецензентами — военными историками… Захотите — разбирайтесь сами. В этом случае помощь Вам сможет оказать, если пожелает, бывший комиссар 1-го СБОНа Лущак Андрей Захарович. Он живет в Киеве. Посылаю его адрес. А нас, пожалуйста, оставьте в покое. Отец и так остаток здоровья и жизни убил на эту затею. В 1970 году писал маршалу Гречко, в 1973-м — Брежневу, но все отфутболивалось вниз — к военным историкам, а те — свое: «не подтвердилось». Так всем удобней. С уважением С. Бабанов».