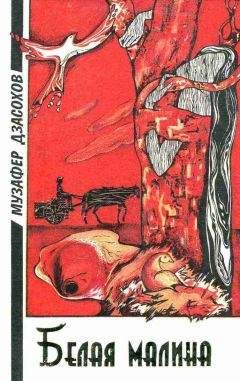Музафер Дзасохов - Осетинский долг
— Отправляйся, отправляйся в колхоз, как все твои товарищи…
Будто я против. Сердце вот о Бади беспокоилось, да и Нана прихворнула. Но деться некуда: принарядилась и поехала в город. Шаламджери должен был вернуться, и я позвонила. Только заикнулась, а он, оказывается, побывал и в училище, поговорил с завучем. Освободили меня…
Не переживай за Нана, она поправляется. И Бади начала ходить в школу. На нашей улице все живы-здоровы. Казбек, сколько ты там еще пробудешь, на целине? Что за работа у вас? Смотри не обморозься. Вот, кажется, вкратце и все. Очень жду подробного ответа.
Дунетхан»Не было на земле никого счастливее меня. Будто все добро обернулось ко мне лицом. При отъезде сюда боялся, как бы это путешествие боком не вышло. Только теперь вздохнул облегченно, ноша с плеч свалилась.
Иду, иду по степи. Хочется побыть одному, упиться радостью, углубиться в степь. Ни людей, ни тока — все уже за горизонтом. Дышу глубоко. Будто граница вселенной раздвинулась. Степь в ковыль-траве казалась еще прекраснее, чем раньше. Причудливые облака на краю неба напоминали родные горы. А может, это и не облака вовсе, иначе как же им удается столько времени не менять свою форму?..
Два сурка, как сытые щенята, блаженно растянулись у норы, на солнышке. Обычно так близко они к себе не подпускают. Малейший шорох — и, хрюкнув, вмиг сваливаются в подземелье. Теперь же прикинулись глухими и слепыми. Каким-то чутьем поняли, что меня нечего опасаться.
Я никому не успел сказать о письме. Да никого оно и не взволновало бы. Делиться радостью, что сестра стала студенткой училища, не стал — не так поймут.
Жизнь прекрасна благодаря вот таким мгновениям. Многие события канут в прошлое, не взволновав душу, развеет их ветром времени. А этот день не дано забыть. Не знаю, буду ли еще когда злобиться? Нет, всем прощаю все-все грехи и грешки, до того благостен я сегодня. Даже Бечирби видится мне в ином свете — чуть ли не рыцарем без страха и упрека. И Асланджери я отпустил грехи, простил ему его блудливость и беспардонность. Окажись рядом кто из них, обрадовался бы, как милому другу, не усомнившись в их искренней взаимности. Верю в это потому, что на нашей грешной земле преобладает все-таки добро, в каждом из нас хорошего больше, чем дурного… Я надеялся на Дунетхан. Но надежда была трепетной, сменялась то и дело страхами за возможные неудачи. В случае провала Дунетхан вовек не простил бы себе, что оставил ее наедине с трудностями, поедом ел бы себя. Хотя, быть может, останься я вблизи родных мест, и тогда не сумел бы реально помочь ей… Как бы то ни было, спасибо вам, крылья светлой надежды!
…Разогнулась, распрямилась спина моя, дышалось все легче. Если бы прибавилось таких людей, как Шаламджери, так оскудели бы и ряды подобных Тепшарыко.
У общежития застал Земфиру, возившуюся с котлом.
— Не слишком ли рано заявился? — начала она с подковырки.
— Ну, это называется — с больной головы на здоровую. Это вы что-то запаздываете…
Земфира глянула на часики, потом на небеса и умоляюще сказала:
— Не пугай, Бога ради, и так вся извелась, дрожу…
— Это отчего же?
— Боюсь не успеть — Настя отпросилась, и я одна…
— Хочешь, подсоблю?..
— А как же на работу, не идешь больше?
— На сегодня — шабаш. Пока доберешься до места, ночь настанет.
— А у меня картошка не дочищена и дрова на исходе…
Земфира, Земфира… Наколов дров, за картошку принялся. Решил поделиться с ней своей радостью. Не усомнился, что она воспримет мою радость как собственную.
— А я из дому письмо получил, — бухнул без всяких предисловий.
— Да-а? — восторженно воскликнула она.
— Сестра в техникум поступила.
Земфира в курсе забот нашей семьи. Это я посвящал ее в них. Знала она и о тревогах моей сестренки. Лицо Земфиры озарилось улыбкой:
— Дунетхан?
Ого, даже имя помнит. Она сама поинтересовалась именами сестер. Вообще, если я разговариваю с ней без вывертов, не намеками, а напрямую, она готова слушать без конца. Но стоит повернуть разговор к делам сердечным, сразу натыкаешься на шлагбаум и дальше нет ходу. Назад же податься не всегда удобно. Если и сейчас начал бы с шуточек-прибауточек, с полунамеков, не завязаться бы этой беседе…
— Откуда ее имя знаешь? — прикинулся я удивленным.
— Да от тебя же самого и знаю!
— Ах, да-да, я и забыл… Ну, точно. Да, Дунетхан. Это голубая мечта ее — поступить учиться. Теперь вот сказка и стала былью.
— Какая хорошая девушка!
— Хорошая — слишком слабо. Замечательная!
Земфира улыбнулась.
— Конечно, замечательная.
— Вот это другой разговор.
Картошку чистили вдвоем. Она второй раз зацепила и выхватила из котла кусок мяса:
— По-моему, готово, — и протянула мне, — попробуй-ка…
Не дожидаясь результата пробы, ухватила посудину с очищенной картошкой.
— Будь что будет, картошка идет в котел, — и высыпала ее. — Минут через двадцать добро пожаловать, гости дорогие…
Солнцу до края земли оставалось пройти с пастуший посох. Ветерок донес поющие голоса. Имей я данные Танчи, никогда бы не пришлось меня уламывать. Правда, и он не очень отнекивается. Старинных героических песен знает множество. Я помню по одной-две строфы из некоторых, а он каждую — от первой буквы до последней точки. Теперь можно уже и разобрать, что поют наши орлы. Показались и сами певцы. Идут обнявшись, положив друг другу руки на плечи. Запевает, конечно, Танчи. Удивительно все-таки: в чужом степном краю и вдруг песня горцев. До того знакомая, что мурашки по спине, спазмы подступили к горлу. От полноты чувств хотелось и плакать и смеяться. Вот бы вскочить на лихого коня, выхватить саблю-молнию и такую удаль показать в джигитовке, чтобы устрашить и настоящих и будущих недругов всех хороших людей. Хотелось продемонстрировать врагам их ничтожество. Я взглянул на Земфиру: она застыла, прислушиваясь к пению. А в глазах ее словно сиял отсвет тех далеких времен, о которых и сложена была эта песня.
О-о-ой, поля Унала камнями полны,
Их без толку засевать.
Ашламбег сказал: — Будзи, взгляни:
Идут наши кровники нас убивать!
Когда все собрались, Танчи, приметив меня, удивился:
— А ты куда запропастился?
Я пересказал ему содержание письма. Он искренне обрадовался, упрекнув только, почему умалчивал об этом столько времени. Опорожнил тарелку и обратился к Земфире:
— Такую еду не смей больше мне подавать!
— По-че-му?..
— Аппетит совесть вытеснит: привыкну «бис» кричать.
Земфира улыбнулась.
— Давай добавлю.
— Если это не подорвет экономику колхоза, но только не подымай шума. Не то прослыву обжорой и останусь холостяком. Ведь факты такие всем известны!
— Не тревожься. Поесть любят не только обреченные быть холостяками. По себе знаю, — подал и я свою реплику.
Земфира не скрывала радости, что ужин удался. Она ведь вся испереживалась, волнуясь: какая из нее стряпуха без Насти? И вот теперь как от занозы избавилась…
Скрылось солнце, и стала видной луна. Из общежития вынесли гармонь, девичьи пальцы заплясали на ее планках, послышалась задушевная мелодия плавного танца. Уставшие от дневных трудов ребята, казалось, не знали устали в танце. Бечирби — танцор на загляденье. Невольно залюбуешься пластичностью его движений. Танчи шепнул мне: «Посмотришь — ведь человек! А тронешь — столько вони! Позорит себя ни за что».
Танчи зазвал меня и еще несколько человек в общежитие, заинтересовав предложением:
— Пока там танцуют, давайте разучим новую песню…
Правда, пока неясно, как залетела в эту даль эта новая песня…
— Слова я сам сложил… На знакомый вам мотив. Там еще такой припев: «Выручай, любимый конь, мчи меня галопом…» Все вспомнили?
— Помним! — дружно ответили все.
— Тогда начинаем! — Танчи запевал сам. Другие, не зная слов, подхватывали припев. Танчи извлек из кармана блокнот и раздал по листку.
— Записывайте, всего-то шестнадцать строк.
Переписали и повторили несколько раз, заглядывая в листочки. Песня звучала задорно:
Нас привез на целину.
А зачем — не знает.
День-деньской он спит в стогу,
Рост наш, вес считает.
Текст наконец разучили — Танчи вносил в него кое-какие авторские поправки. И вот — грянули! Земфира и несколько девушек, появившись в дверях, сразу уловили, в чей огород эти камешки нацелены.
— Вот чертенята! — Земфира улыбнулась и, выглянув в дверь, предупредила: — Прекратите! Бечирби идет.
Танчи в ответ еще громче запел: «Выручай, любимый конь, мчи меня галопом…»
Девушки заливисто смеялись, а Бечирби, остановившись в дверях, непонимающе взирал на веселящихся.