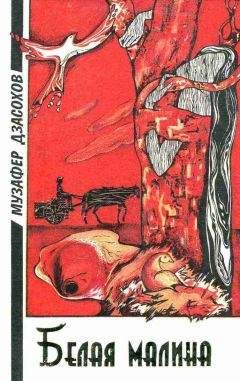Музафер Дзасохов - Осетинский долг
Вместе с Танчи мы работали на комбайне, и здесь на току — тоже в паре.
— Не отстать бы от девчат, — забеспокоился он.
— Это почему же вдруг?
— Не слыхал, что ли, об их рекорде?
— О каком рекорде?
— А вот о каком. Рая с подружками опорожняет грузовик за считанные минуты. Они целую неделю возглавляли соревнование, премии удостоились. Сам Кылци вручал…
Четыре машины разгрузили без передышки. Вдвоем. Но и другие не отставали. Еще минуту назад машины шли одна за другой, а теперь ни одной не видно. Может, опять из строя повыходили? Но не все же разом… Самое время и распрямиться, размяться малость. Гляжу, некоторые и обедать нацелились. Раз простой — и нам не грех к ним присоединиться. Хорошо, что обед доставляют прямо на ток — экономится время на короткий отдых. Земфиру у обеденных столов увидел. Вокруг ее полевой кухни толпятся проголодавшиеся студенты. Долгонько же мы питаемся едой, приготовленной Земфирой. Эх, всю жизнь быть ей моей хозяйкой! Однако сейчас будь доволен и теми крохами, что перепадают тебе наравне с другими.
Отстроено и второе общежитие, палатки свернуты, у всех теперь прочная крыша над головой. Почему-то жилища наши обозваны сараями. Не могу согласиться. Ведь сарай — он без окон, а у нашего жилья есть и окна, и двери, и пол настелен. Чего же еще надобно для короткого сна, для отдыха в страду!
Вспомнилось детство… Как-то на пахоту привезли обед. Мог ли он быть обильным в то послевоенное лето! Кислое молоко, зеленый лук, кукурузный чурек. Кто-то проявил недовольство, и тогда один дед высказался:
— Что ворчишь? Вот тебе кефир, вот зелень, вот хлеб! Чего еще надобно? Холеры? Так у черта проси ее! — Слова эти стали крылатыми.
Нечего и нам грешить на жилье, крыша над головой есть, не течет — и ладно, а холода наступят — не пропадем, печь можно соорудить.
После работы идем купаться. Не знаю чем, но Бечирби приглянулись мои брюки. Наверное, не заметил заплат на коленках, пристал — давай меняться. Ребята посмеиваются, а я что-то не пойму. Может, просто подзуживает: соглашусь, а он на смех поднимет… Откровенно, я и рад бы махнуться, да… Он придвинулся совсем вплотную и шепчет, чтобы не слышал никто:
— Если согласен, я скину свои.
Будь что будет, решился:
— Давай!
Брюки перешли из рук в руки. Ребята как на спектакле закатываются. Когда смеется один, как говорится, сам над собой смеется. А вот если все разом — тут, видно, дело пахнет керосином. Не знаю, как Бечирби, бестия этакая, носил свои брюки, может, в упаковке какой держал их, но стоило мне только присесть, как они на боках расползлись по швам, точно трухлявые. Вот уж тогда-то и достиг апогея громоподобный хохот. Видано-слыхано ли, чтоб такой прохиндей, как Бечирби, да не ухитрился кого объегорить? Не зря я предчувствовал подвох и потому тщательнейшим образом — как было принято на ярмарке — осмотрел эти злосчастные штаны, но не обнаружил какого-либо изъяна. И махнул рукой: была не была, не скакуна же в конце концов проиграю. И вот те на! Стал посмешищем. А впрочем: ну обдурил меня Бечирби, ну свалял я дурака — эка невидаль. Не на свадьбу идти в драных штанах, не на похороны. Да и брюки, которые отказал мне Шаламджери, лежат в чемодане еще целехонькие. А кроме них еще и тренировочные есть. Так о чем же печаль? Досадно, конечно, что ребята обсмеяли, но и свои-то латаные-перелатаные, насквозь проштопанные — жалеть не приходится.
Полученную от Бечирби обнову я демонстративно, чтобы он хорошо видел это, понес к реке с ярко выраженным намерением зашвырнуть подальше. Тут он себя и показал. Жалко стало, тряпичная душа, старых порток, к тому же теперь и чужих. Принялся уговаривать не брать грех на душу, не выбрасывать, они-де еще послужить могут. Но уговоры что холостой выстрел. Только лишний повод ребятам потешиться всласть.
Я и камень увесистый в них закатал, чтобы летели подальше и утонули скорее. Номер, однако, не получился. Камень выскользнул из брюк при броске и булькнул. На расходящихся от этого волнах штаны долго еще качались наподобие цветка в проруби. Хохот был уже гомерическим. И Бечирби смеялся, но через силу. Давленый смех какой-то.
— Деньги! — истошно завопил он вдруг.
Зрители недоуменно смолкли.
— Деньги в кармане забыл! — указующий перст его был нацелен все на те же штаны.
Ребята схватились за животы. На моей улице, кажется, наступал праздник:
— Ты что по берегу мечешься, как курица, от которой утята уплыли? Спасай денежки-то!
Я вспомнил, что Бечирби не только не умеет плавать — к воде близко не подойдет, будто водобоязнью страдает. Лучшего шанса сквитаться, пожалуй, и не будет. Поэтому с издевкой советую:
— Прыгай живее, а то уплывет твой капитал в Нептунов банк.
— Да я же только «топориком» плаваю-то…
— А наш пес тоже не мастак, но стоит под хвостом запачкать, так почище лягушки выгребает. О! Ха-ха-ха!..
— Да пойми! Деньги тонут, деньги!
— Ну, понятно, деньги. И к тому же твои…
А брюки, набухшие и отяжелевшие, уже поглощались глубиной, недоступной для их бывшего хозяина. Нет, во второй раз я всеобщим посмешищем не стану. Да пусть миллион там тонет — ног не замочу. Хоть ты надорвись от крика. Да и откуда у Бечирби вдруг деньги? Ведь за всю дорогу он и рубля не истратил — все за чужой счет. Лишь однажды достал из дорожной сумки головку чеснока: десны, говорит, укрепляет хорошо. Если есть с моей колбасой, конечно. И зачем понадобилось ему вдруг эти десны укреплять? Ведь пасть-то — акула позавидует! А теперь, оказывается, и деньги у него сыскались?!
— Ну вытащи, умоляю…
— О каких деньгах речь? Карманы-то — дырявые!
— Да в пистончике они!
Действительно, потайной карманчик ощупать я не догадался. Да и мысли не допускал, что такой скряга оставит там хоть какую-то ценность.
Танчи сбросил одежду и поплыл выручать тонувшее сокровище. Выбравшись на берег, первым делом отыскал пистончик. С трудом просунул в него два пальца и вытащил сложенную вчетверо двадцатипятирублевку. Только встряхнул, как она распалась на четыре части. Лоскутки упали на землю.
— И сколько же таскал ты свою четвертную? — спросил Танчи.
— Несколько дней…
— А может, месяцев? Что-то сильно поистерлась.
— Это от воды…
— От воды и вдруг ровнехонько на четыре части? Вот это реакция разложения!
Ребята посмеивались вяло, будто что-то их покоробило. Я испытывал чувство, похожее на гадливость: вез человек свое сокровище за тридевять земель — от гор Осетии до степей Казахстана, — трясся над этой бумажкой, приберегал на неизвестно какой «черный» день, унижаясь подачками, паразитируя на чувстве товарищества. Вот скряга, еще и поживиться пытался за мой счет! Видите ли, брюки мои ему приглянулись. И снова, в какой раз, уронил он себя в глазах ребят. Впрочем, таких толстокожих, как Бечирби, не проймешь, им не дано увидеть себя со стороны, оценить свои поступки, содрогнуться от брезгливости. В этом — вся печаль, в этом — вся загвоздка…
XIII
Танчи на ходу размахивает письмом. Екнуло сердце — не мне ли? Если действительно мне, так только от Дунетхан.
— Казбек, послание от сестры!
Пока он приближался, куда только не возносились мои мысли.
Вскрыл конверт.
«Добрый день, Казбек! До сих пор я умышленно молчала. Думаю, дай сперва сдам экзамены. Теперь все позади. Господи! Угадай: принята или нет? Так вот: отныне и я студентка! Шаламджери волновался не меньше моего. Ждал и маялся. Но знал бы ты, какие пустяковые достались вопросы, знала их все-все. Больше всего страшилась сочинения. Когда оставила на столе комиссии свой опус, вышла на воздух совершенно обессиленная и опустошенная. Прислонилась к березке у входа — наверное, помнишь ее? — и вся похолодела. Шаламджери стоял бледный. Вспомнила, что в одном месте пропущена запятая и слово „чувство“ написано без „в“. Все, думаю, завалила — заслужила двойку хвостатую. Как провела ночь — лучше не вспоминать. Но вот взошло солнце, день засиял — и как гром: четверка! Последний барьер — конкурс. Шаламджери ходил к директору и интересовался моими шансами. Тот сказал, что тут и волноваться нечего. А самая великая радость — это когда в списке принятых под номером третьим я прочитала твою фамилию, то есть свою фамилию, фу-ты — нашу фамилию!
Вот видишь — и общежитием обеспечена — и об этом Шаламджери побеспокоился! В комнате нашей жить будут двенадцать девушек.
Знаешь ли, что первокурсники едут в колхоз? Хотела отпроситься и не посмела. Пошла к Шаламджери, а он в командировке — уехал в Моздок. Даже растерялась. С неохотой, но все же разыскала Тепшарыко. Я все еще не могу простить ему обиду, которую он причинил, советуя поместить нас в детский дом. Просто ненавижу его с того самого дня. Но пристала Нана: пойди да пойди. Что оставалось? Пошла. Как босая по колючкам. Изложила ему суть дела, а он: