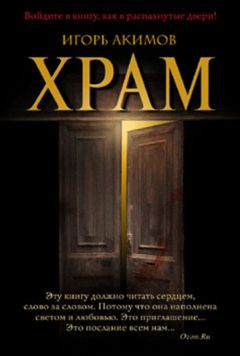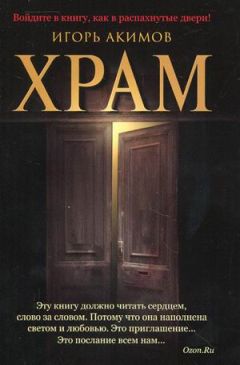Федор Сухов - Хождение по своим ранам
Я не без опаски ступил на чисто подметенную, посыпанную свежим песком дорожку. Навстречь вышел весь в ремнях и блестящих пуговицах капитан и спросил: кто мы и откуда?
Я назвал свою фамилию, свой батальон, добавив, что явился по вызову командира бригады.
Через несколько минут со мной разговаривал старший батальонный комиссар Кудрявцев. Комиссар бригады был в курсе моего дела. Он как-то грустно спрашивал меня:
— Значит, не нашли ни живых, ни мертвых?
— Нет, не нашли.
— А откуда были эти бойцы, ты их домашние адреса знаешь?
Я сказал, откуда Корсаков, откуда тот боец, фамилию которого я запамятовал.
— А сам ты откуда?
Я сказал свою область, свой район, свое село.
— Отец есть, мать?
И тут я чуть не задохнулся от вставшей в горле тяжелой обиды на самого себя. Старший батальонный комиссар все понял и оставил меня одного. Неслышно и горько падали листья — давние слезы моей первой окопной осени.
Вскоре я стоял перед молодым генерал-майором. Таких молодых генералов мне не приходилось видеть даже на портретах. Генерал ни о чем меня не спрашивал. Он повернулся к рядом стоящему полковнику Цукареву и как-то обыденно сказал:
— Дайте ему десять суток ареста. И пусть идет командовать взводом.
После я узнал, что спас меня от штрафного батальона генерал Черняховский.
А сейчас расскажу, что случилось с моими пропавшими бойцами.
Служил в одном из взводов нашей роты некий Гутовский. Говорили, что он из Донбасса и до войны был шахтером. Высокий, хорошо сложенный, со скульптурно вылепленным лицом, от таких мужчин женщины обычно теряют голову, но женщин в нашей роте не было, поэтому на Гутовского особого внимания никто не обращал. Он, как и все мы, молчаливо и терпеливо нес нелегкую ношу солдата-фронтовика. Не знаю, как он вел себя в бою, но когда стихли бои, он был усердным и исполнительным. Гутовский стал видным человеком не только в роте, но и в батальоне. У него была хорошая бритва, и он хорошо брил, была машинка, и он хорошо стриг, он рьяно собирал и сжигал немецкие листовки. Короче говоря, парень был свой, его уважали и любили.
И вот как-то ночью, во время моего дежурства по батальону, когда Гутовский стоял на посту, я увидел на позициях нашей роты того самого старшего лейтенанта с неизвестной мне должностью и начальника штаба батальона. Они спросили меня, на каком посту стоит Гутовский, и попросили узнать, что делает сейчас постовой. Я сходил, узнал и доложил, что Гутовский караульную службу несет бдительно, как положено по уставу.
— Еще сходи и узнай, сколько у него патронов, — приказал начальник штаба.
«Делать нечего этим штабникам», — зло подумал я и снова неохотно подошел к Гутовскому, спросил, сколько у него в магазине патронов?
— Вот еще, товарищ лейтенант, вы что, не знаете: десять, — как-то по-дружески, доверчиво проговорил бывший шахтер.
— Дай погляжу.
Гутовский нажал на защелку магазинной коробки и подал коробку мне. И тут-то я услышал команду начальника штаба:
— Руки вверх!
Постовой Гутовский рванулся, но за его спиной с вынутым из кобуры пистолетом стоял старший лейтенант.
Спустя некоторое время я узнал, что наш брадобрей был немецким агентом, «обрабатывал» наших бойцов, подсказывал им, как и когда можно перейти линию фронта, сдаться в плен и тем самым спасти свою жизнь. Таким образом попался на вражескую удочку Корсаков и… Попался на нее и красивый мальчик-сибиряк Стрельцов. Его арестовали в ту ночь, когда я был дежурным. У него нашли надежно припрятанную листовку с паролем: «Штыки в землю. Сталин капут».
Письмо мое неимоверно затянулось. Напоследок несколько слов.
Возвращаясь во взвод, на позиции своего батальона, я спохватился, решил узнать: цел ли у меня комсомольский билет. Расстегнул карман гимнастерки — билет цел. Обрадовался. Глянул на свою фотокарточку и совсем неожиданно увидел неотправленный треугольничек, адресованный моим родителям. В треугольничке было всего три слова: «Больше меня не ждите». Стало как-то неловко за самого себя. Глянул на Заику, он, конечно, ничего не знал, но я боялся, как бы мой сопровождающий не догадался о том, что я так долго сохранял в величайшем секрете.
11
Арест Гутовского и красивого мальчика-сибиряка Стрельцова прошел как-то мимо меня. Мне долгое время и не сообщали, за что их арестовали. Но с командиром роты, видимо, крепко поговорили.
Лейтенант Шульгин стал реже выходить из своего блиндажа, а когда выходил, сапоги его уже не светились, в них не гляделась даже пожухлая, лежащая под ногами листва. Не гляделось в них и солнце, а оно не забывало нас, заглядывало в наши окопы, отрытые в полный профиль с разветвленной сетью траншей и ходов сообщения. Сладко потягиваясь, выходил на солнышко мой зеленоглазый квартирант Тимофей, садился на присыпанный землей накат блиндажа и, подобрав под себя хвост, подолгу смотрел на испепеленное, чернеющее остовами остывших печей Подгорное. Пролетал мимо осиновый или кленовый лист, кот настораживался и, ежели лист замирал, ложился па землю, мой зеленоглазый квартирант шевелил его смешно приподнятой лапой.
Осень 1942 года… Следует отметить, что она ознаменовалась важными событиями не только в нашей роте, но и во всей Красной Армии: был отменен институт комиссаров, вводились единые воинские звания для политического и командного состава, был значительно изменен и дополнен боевой устав пехоты, появились ординарцы.
Мне как командиру взвода тоже полагался ординарец, им стал ефрейтор Заика. Однажды, низко пригибаясь, он заглянул в мой блиндажик и сообщил неожиданную весть: ранило командира роты.
Как ранило? Когда? Артналета не было, немецкие самолеты тоже давно не появлялись над нами. Может, наступил на мину? Но и минного поля возле нас не было. Я вышел из блиндажа и направился к опушке леса, туда, где был командный пункт роты, где окопался лейтенант Шульгин. Через какое-то время я был среди тех, кто вынес лейтенанта из укрытия и положил его под двумя уже начавшими опадать дубками. Ладное, перехваченное широким ремнем, крепко сбитое тело странно корежилось, рот синел и пузырился тягуче-липкой пеной, скрежетали зубы.
— Что с ним? — спросил, округлив удивленные глаза, пришедший с позиций своего взвода младший лейтенант Заруцкий.
Никто не ответил.
А я вспомнил низко опущенную, зажатую в ладони голову, надо полагать, что ей тоже нелегко было, когда бесследно исчез Корсаков и тот боец, что был из-под Курска… А тут еще Гутовский и Стрельцов.
Командира роты положили на плащ-палатку и унесли в глубь леса. Туда же последовал и младший лейтенант Заруцкий, а я остался возле двух дубков, мучительно остро ощущая свою вину, теперь уже не только перед Родиной, но и непосредственно перед людьми. Как-никак Гутовский смог «обработать» бойцов моего взвода. Почему так произошло, я не мог понять. Наверно, потому, что я плохой командир, а у плохого командира всегда случаются разные истории…
Накрапывал мелкий дождь, предвестник близкой мокрети, непролазной непогоды. Выцвела синева низко опущенного неба, со всех сторон надвигались темные сверху и холодновато выбеленные снизу торопливо бегущие облака. Все чаще стали обваливаться не забранные досками стенки траншей, песчаная земля уже не выносила навалившейся на нее сырости. На душе тоже стало сыро и неуютно. Уходить с опушки леса не хотелось, хотя я и знал, что она метко пристреляна немецкими батареями.
Вернулся младший лейтенант Заруцкий. Глаза его шарнирно круглились, по ним нельзя было понять, что случилось с лейтенантом Шульгиным, но я заметил в них ту искорку, которая обычно появляется, когда сбывается давнее, тщательно скрываемое желание. Младший лейтенант оглядел позиции моего взвода и, увидев праздно сидящего у входа в общий блиндаж Тютюнника, спросил, чем занимаются мои бойцы? Я ответил: подчищают траншеи.
— Незаметно, чтоб подчищали…
Таким тоном Заруцкий дал понять, что получил повышение в должности и стал временно, а может быть, и невременно, командиром роты. Ради справедливости следует сказать: это повышение вполне заслуженное, вернее — выслуженное. Старый кадровик, много лет оттопавший взводным пехотинцем, младший лейтенант не шел ни в какое сравнение с теми командирами, которых принято было называть сосунками, инкубаторно выпускаемыми ускоренным методом разными военными училищами и подготовительными курсами.
— Иди во взвод и наведи порядок, — не повышая голоса, спокойно проговорил только что назначенный командир роты.
Я повернулся спиной к лесу и спустился в ход сообщения, не придав, однако, особого значения словам о наведении порядка. Порядок обычно наводился перед приходом высокого начальства, но о его приходе не было слышно. Возможно, младший лейтенант, получив должность командира роты, сам себя считает высоким начальством, тогда… А что тогда? Да, ничего. Тютюнник все так же будет сидеть у входа в блиндаж и тоскливо ждать вечера, того часа, когда из леса потянет дымком всегда запаздывающей кухни. Но я ошибся. Тютюнник встал, он стоял перед неизвестным мне человеком с двумя кубиками на зеленых полевых петлицах добротно сшитой гимнастерки.