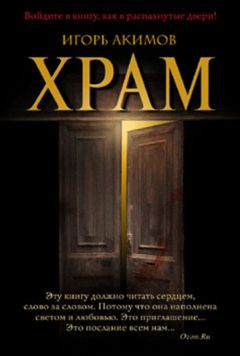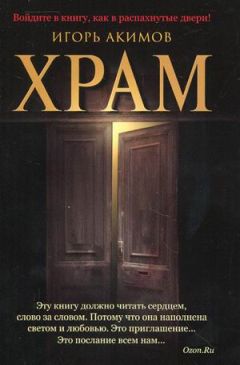Федор Сухов - Хождение по своим ранам
— Иначе, — сказал командир роты, — не возвращайся во взвод.
Осень была теплой, но по вечерам ощутимо свежало. А когда мы со старшиной стали подходить к Дону, к его пойме, совсем захолодало. Взошла и четко обозначилась полная, с таинственными пятнами луна. Серебряно чешуился притихший, огороженный тальниковыми зарослями Дон. Слышно было, как тревожно шушукался тронутый сизоватой окалиной камыш. Пожалуй, он один мог сказать что-то о бесследно исчезнувших товарищах, но, кроме таинственного шушуканья, мы ничего не слышали. Сам я не возлагал особых надежд на наш ночной поиск, но, помня слова командира роты, вернуться во взвод с пустыми руками не мог. Так пусть лучше убьет меня или ранит тут вот, возле камышей, возле прибрежного донского песка… Но странное дело, ни одного выстрела ни с нашей стороны, ни со стороны немцев. Только камыши шушукаются да мельтешат под ногами опадающие тальниковые листья. Я молчал, старшина тоже молчал. Мы ничем не могли утешить друг друга, и я ускорил шаг…
Страшная мысль не давала мне покоя: неужели они перешли к немцам? До конца войны, при любых обстоятельствах, я никогда не думал, что можно перейти к немцам. Я всегда помнил строки из «Слова о полку Игореве»: «Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти».
Всю ночь мы проходили по залитой луной, прохладно дышащей пойме и никого, ни живых, ни мертвых, не нашли. Только к утру, когда от Дона, низко стелясь, расходился густой туман, мы услышали хриплый, остуженный пойменной сыростью голос:
— Стой! Кто идет?
Ответили, что идут свои.
— Кто свои? Откуда?
Старшина Капустин нашелся и сказал, что мы идем из разведки.
— Вы что, не знаете, что здесь минное поле?
Старый, прикрытый натянутой на уши пилоткой сапер сожалеючи проговорил, что ежели бы он вовремя не заметил нас, мы бы непременно попали в могилевскую губернию по путевке наркомзема. Старик попросил у нас закурить. Я тогда не курил, не курил и старшина.
— Значит, плохо дело.
Дела наши действительно плохи, и мы спросили сидящего на бруствере сапера, не видел ли он на своем минном поле двух молодых бойцов? Сапер бережно придержал нашаренную в шинельном кармане махорочную труху и ответил, что никого не видел.
Туман стал расходиться, редеть, чувствовалось, что уже взошло солнце, оно пробивалось из-за дубового, кое-где просветленного березами леса, возле которого бугрились наши противотанковые позиции. Не знаю почему, но мне вспомнился обитавший со мною в одном блиндаже сибирский, с пушистыми лапами и зелено горящими глазами кот. Попал он ко мне случайно, но мы с ним быстро поладили: кот хорошо ловил мышей, по ночам ловко хватал их, не давая им забраться под мою гимнастерку. За это он получал маленькую дольку из моего скудного доппайка, две-три кильки из только что открытой консервной банки.
Когда я заявился после суточного отсутствия в блиндаж командира роты, тот сидел с низко опущенной, зажатой в ладонях головой. Я собрался было ретироваться, но отчужденный, процеженный сквозь зубы голос спросил:
— Нашли?
— Нет.
— Иди.
Я ушел. Через несколько часов участь моя была решена: по приказу командира бригады я отдавался в штрафной батальон. Может, ты удивишься: за что? Об этом я расскажу после. А сейчас под шиферной крышей садовой сторожки я сижу и вспоминаю, как дожидался того момента, когда с меня должны были снять дареный (особо памятный) комсоставский ремень и под конвоем отправить неведомо куда. И хотя я знал, что дальше фронта меня не отправят, все же боялся штрафного батальона и твердо решил самолично наказать себя за свою вину. К бойцам своего взвода я уже не выходил, мне было стыдно показываться им на глаза…
Мне в блиндаж, как и раньше, приносили пайку хлеба или шесть ржаных сухарей. Сухари я еще ем, но хлеб не лезет в рот — я не заслужил его, я проштрафился. А раз так… И я стал нащупывать спрятанным в железный кожух, тупо срезанным стволом автомата то, что виновато билось под моей выцветшей до белизны хлопчатобумажной гимнастеркой. Но кто это? Я хотел, чтоб никто не видел, никто не знал… Ах, это кот, он открыл своими пушистыми лапами угол плащ-палатки, что висела над входом в могильно затихший блиндаж. Кот прыгнул ко мне на колени и замурлыкал, да так жалостно, что я чуть не заплакал. Потом он стал лизать мои руки. Одной рукой я прикоснулся к мурлыкающей, мягкой, как одуванчиковый пух, спине, другой отложил взведенный и непоставленный на предохранитель автомат. Прошло сколько-то минут и я смирился, решил, что и в штрафном батальоне можно воевать, а раз так, поставил автомат на предохранитель.
Шли дни, проходили ночи, но меня почему-то никто не беспокоил. Я стал выходить к своим бойцам. Я даже подумал, что командир бригады, возможно, забыл об отданном им приказе. Но как-то раз, когда было еще солнечно и тепло, я увидел идущего навстречь мне старшего лейтенанта, я не знал его должности, встречался с ним только в штабе батальона, да и то мельком. Старший лейтенант подозвал меня к себе и, присев на бруствер траншеи, долго интересовался моими биографическими данными: кто мои родители, где я родился, где учился, спрашивал вежливо, доброжелательно, и я опять подумал, может, меня и вправду помилуют. Но не тут-то было. На другое утро меня вызвали в штаб бригады. Штаб бригады был далеко, километров за десять от наших позиций и, чтобы веселее было идти, я попросил командира роты разрешить взять с собой одного бойца.
— Для сопровождения одного мало, но тебя и один доведет, — сказал командир роты, не глядя на меня.
Я понял, что дело пахнет, вероятно, уже не штрафным батальоном, а чем-то более серьезным. Сопровождающим был выделен ефрейтор Заика. Все десять километров мы шли лесом по усыпанной листьями, мягко стелющейся дороге. Осенний, как бы капающий воском, желто и багряно воспламенившийся лес на какое-то время успокоил меня, прибодрил своим муравьиным спиртом и той кисловатой брагой, что цедилась молочной белизной берез; лес шел вместе со мной, осторожно ступая медвежьими лапами по вечнозеленому вереску, по непролазно переплетенному, проволочно-колючему ежевичнику. Над головой что-то стукнуло, я поднял глаза: дятел. Пролетел и рассыпался жидкой дробью дрозд, тревожным звоном захлебывалась синица. Я глянул на своего сопровождающего, на его белое, припорошенное гречневым пушком лицо, и мне стало жалко самого себя. Я ведь думал, что честно послужу Родине, и никогда не думал, что мне придется идти под конвоем своего сослуживца, своего окопного товарища. А конвоир мой сделался чудным: закинув за спину автомат, он остановился возле орешника и рвал не успевшие опасть орехи, заходил в глубь леса и возвращался с веткой бересклета, осыпанной волчьими ягодами.
— Товарищ лейтенант, давайте поищем грибов…
Смешной какой, не знает, что ли, что я уже не лейтенант, я штрафник и мне не до грибов.
— О чем вы задумались, товарищ лейтенант?
О чем я задумался… Мы уже подходили к памятному мне многонакатно возвышающемуся блиндажу.
— Давайте присядем, отдохнем, — совсем не по-конвоирски предложил Заика.
Мы присели на дубовый, круглящийся, как тележное колесо, осыпанный свежими опилками пень. Заика увидел желуди и стал набивать ими карман шинели. А я все посматривал на многонакатно возвышающийся блиндаж. У его входа стоял постовой с самозарядной, приставленной к ноге, винтовкой. По ее кинжальному штыку стекало проглянувшее сквозь желтизну листьев, хоть и остывающее, но все еще ласковое солнце. Часов у нас не было, но время мы привыкли узнавать, если не по солнцу, так по своему желудку: к середине дня обычно начинало сосать под ложечкой, хотелось есть. И я услышал, как Заика за моей спиной грыз желуди, давясь их древесной зеленцой. Из блиндажа, распружинясь, выпрямясь во весь рост, вытолкнулся (как пробка из бутылки) перекрещенный подтяжками, тронутый стальной ежиной проседью человек. Он подставил густо заволосатевшую грудь под прибитый к хлюпкой осине умывальник. Полковник Цукарев, я узнал его по ежиной, колючей проседи, по сгармоненным, зеркально блестящим сапогам. Он умывался, а невдалеке стоящий постовой спешно поправлял пряжку ремня, подтягивался. Потом я увидел полковничий, свежеподстриженный затылок, пунцово налитую, крепкую, без ямочки, шею. Полковник спустился в блиндаж, а вскоре опять вышел из него, теперь уж не в подтяжках, а в ловко обхватывающих пухлые плечи ремнях. Он отдал какое-то распоряжение, и мгновенно на дороге, возле которой стоял постовой, появились бойцы с березовыми вениками.
— Смирно! Товарищ командующий…
Зычный голос полковника отдался где-то на опушке леса, а сам лес загудел, как колокол, еще гуще осыпал поблекшую подножную траву шелестящей медью опадающей листвы. Я немного воспрял духом: приехал генерал, может, командующий фронтом, и командиру бригады полковнику Цукареву будет не до меня. Но тут же подумал: что будет с Заикой, ведь ему приказано доставить меня по назначению, так пусть же он скорее доложит, что приказ командира бригады выполнен, бывший командир 2-го противотанкового взвода доставлен…