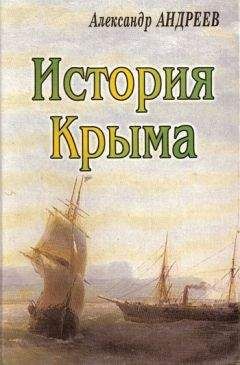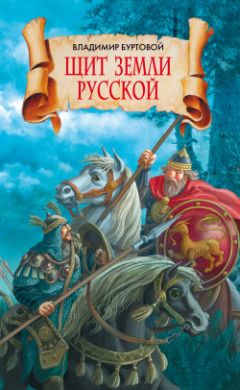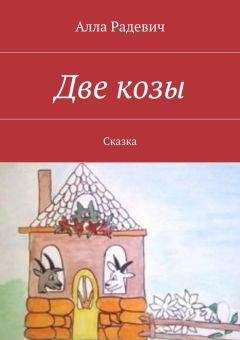Владимир Барвенко - Утро чудес
О «Ночной купальщице» я вспоминал редко — холст так и лежал за шифоньером. А тут еще распался школьный изокружок, потому что Ефимыч надолго уехал лечиться в Крым.
Нет, я не бросил писать картины, а временно отложил. Просто так сложились обстоятельства. Поздней осенью, когда пойдут дожди, я вернусь к мольберту…
Однако в нашем городе долго держится погожая, теплая осень.
Глава седьмая
…В декабре в нашей квартире появился лысоватый, в пенсне, старичок с потрепанным ученическим портфелем без ручки. Он держал его крепко за угол, как щенка за загривок. Старик разделся и присел к столу. Он приветливо улыбался и плохо скрывал, что принес известие, которое, несомненно, нас обрадует. «Как живете? На что жалуетесь?» — спрашивал он и не спешил. Ему, наверное, тоже хотелось получить удовольствие. Я догадывался, о чем он скажет. Об этом уже с год поговаривали в нашем дворе. И вот оно, официальное известие, — наш дом приговорен к сносу. Это случится весной.
До того дня я вряд ли серьезно задумывался о том, что может наступить его последний час. Не раз любопытство прибивало меня к взрослому костерку в какой-нибудь теплой кухоньке. И я опять слышал, что «наверху» уже все решено, бараки «вскорости» поломают, вот-вот жильцам придется смахивать пыль с чемоданов. В тех разговорах было больше желаемого, чем правды, и я сомневался — переезд на новые квартиры казался несбыточным. Однажды, надев выходной костюм с наградами, в исполком ходил дядя Костя. Вернулся он быстро и сказал, с досады секанув ладонью воздух:
— Все это — вилами по воде.
Соседи огорчились, а я усмехнулся. Я прочно жил в старом дворе по улице Красных Зорь, и только, пожалуй, мечты уносили меня из него далеко-далеко. Но и в них я возвращался. Знаменитым художником, уважаемым, живущим в большом городе человеком, я все-таки возвращался в свой двор. И был по-детски счастлив сознанием постоянства.
И вот к нам первым пришел старичок в пенсне. И отдалившись на миг от радостного известия, я вдруг с болью подумал, что никогда уже не буду жить на Зорях.
А радость пошла дальше по двору, распахивая квартиры и души. Вечером у нас были посиделки — собрались все женщины двора. Шумно обсуждали новость. Никого не смущало то, что первыми под слом идут бараки, и застройка начнется чуть ли не с середины улицы. Тут все единодушно решили, что дома наши государственные и хлопот с нами поменьше, чем с капризным частником. Переселят барачников в «хоромы» на окраине города, и будьте довольны. А частник потребует квартиру в центре, да еще за свой дом, да за подворье цену заломит. Не съедет, и все.
— Вот так, милые, центру придется откланяться, — рассуждала тучная, пучеглазая бабушка Вера из пятой квартиры. — А я себе думаю: на кой ляд нам центр? У меня от топки, от золы проклятой да от ведер с водой уже руки отваливаются.
Женщины, которые постарше, с нею согласились, а те, что помоложе, с вызовом усмехнулись, такое сказать — центр не нужен. И вообще есть ли, мол, закон, чтоб барачников выгонять на окраины без их согласия? Разузнать надо и что-нибудь предпринять, пока не поздно. (Но никто, конечно, ничего не разузнал и тем более не предпринял.)
Я сидел на скамейке-мелковушке возле печки, полузгивая семечки, и слушал соседей. Посиделки у нас бывали нередко, но такие вот многолюдные — первый раз.
За окном схватывался ветер, задувал в ставни: противно скрежетал прогон, там было студено и метельно. А здесь тепло, уютно от печи, от посапывающего на алых конфорках чайника, от сладкой тесноты разговоров.
Я смотрел на лица женщин с напряженным вниманием, и что-то новое открывалось мне в них, одинаково розовых, хмельных от неожиданной радости. Смешное и тревожное. Наверное, так бывает, когда ты удалишься вдруг от близких тебе людей на годы и станешь с ними вровень и умом, и сердцем, и опытом прожитой жизни. Ты поймешь их страдания и надежды какой-то выплеснувшей из детства зрелостью, как будто коснешься вечной земной тайны, печально ощутив всю удивительную краткость этого прикосновения.
Вот бабушка Вера — желтовато-морщинистое личико, туго обрамленное косыночкой, формой и цветом напоминавшее жухлый осенний лист, умиленно тараторит себе под нос. Ей поддакивает немногословная, чистая противоположность, бабушка Нюся, и глаза ее по-ангельски светлы.
…Я и сейчас вижу те далекие улыбчивые лица баб Вер, теть Зин, теть Клав. Они остались неизменны, вечны в рисунке с тех последних посиделок в нашей квартире. В том разговоре жильцы с легкостью рушили свой дом, принесший им немало худа. Им вообще казалось неуместным вспоминать прошлое, редкие счастливые дни. Но и тогда — в неожиданно потупившемся взгляде, в нервной ухмылке, в дужке задумчиво приспущенных губ — угадывалась добрая память вместе прожитых суровых лет…
Вдоволь, от души наговорившись, женщины пили чай с вишневым вареньем, негромко толковали о своих заботах, о мужьях и детях. Протяжно, тоскливо спели и разошлись почти в полночь.
Потом радость как-то быстро истратилась в суете дней, но я заметил — соседи стали чаще улыбаться друг другу. Просто в нас затаился праздник. Праздник Ожидания… А в конце марта, когда побежали погожие дни и всюду зачернела, покрываясь сухой коркой, земля, барак закипел в приготовлениях к переезду. Из квартир посыпались на отвердевшую землю железные кровати и кушетки, блеклые тумбочки и кухонные столы. Новые резкие запахи наполнили двор. Соседи плавили в кухоньках шоколадные ломтики столярного клея: латали шифоньеры и шкафы, щедро протравливали керосином скрипучие «клоповники», покрывали масляной краской тумбочки и столы. Вокзальная суета затихала лишь в сумерках, и тогда во двор возвращался молоденький запах дымка свежезатопленных печурок в кухоньках — первейший у нас дух весны.
Воскресным днем мы с мамой тоже взялись за мебель. Я ремонтировал стулья — сажал на клей спинки, а мама лакировала этажерку. Нашей мебелью можно было отлично обставить какую-нибудь контору утильсырья, и я недовольно бурчал.
— Мебель как мебель. Как будто у кого-нибудь из наших соседей есть лучше, — не выдержала наконец мама и вдруг улыбнулась: — В новую квартиру, сынок, мы обязательно купим хорошую вещь.
— Какую еще вещь?
— Трюмо! — воскликнула мама. — Но давай вначале переедем.
— Трюмо? Почему ты решила трюмо? — недоумевал я.
И мама объяснила. Трюмо, оказывается, делает квартиру очень нарядной. Такое зеркальное чудо она как-то видела у знакомой. Но я все-таки был против трюмо — у нас имелось довольно приличное зеркало. Вот если бы радиолу. Я сказал маме, что во всех нормальных домах есть приемники и радиолы.
— В других домах, сынок, есть еще и отцы, — ломко ответила она и часто замахала кистью.
— А ты чего ждешь? Уже б нашла себе кого-нибудь. Другие выскакивают замуж и живут. А ты еще красивая, посмотри на себя, — бухнул я.
— Слава богу, утешил. Красивая, — засмеялась мама, но как-то неискренне, и я со страхом подумал, что она в самом деле может последовать моему совету. А вдруг у нее уже есть кто-то на примете? Еще не хватало чужого дяди в нашей квартире.
Я потупился.
— Ну разве кто посмеет сравниться с твоим отцом, — шутливым тоном произнесла мама. Она, конечно, поняла, о чем я задумался. Вдруг захотелось ее обнять, но мне впервые стало неловко.
Впрочем, в те хлопотные дни приготовлений к переезду она не раз вспоминала отца, верно, думала о нем.
В очередной аврал жильцы принялись очищать погреба и сарай. Вытаскивали вонючие кадки, полные лохмотьев, рваной обуви, фанерные ящики, дырявые тазы и кастрюли. Кадушки, не торгуясь, продавали людям из соседних домов, а хлам, помогая друг другу, грузили на подводу, шумно договаривались с кучером насчет лишней ходки и украдкой совали в его заскорузлые ладони смятые рубли. Избавляясь от негодных вещей, пропитанных военной и послевоенной нуждой, жильцы словно изгоняли бедность. Вот-вот должна была открыться новая жизнь, и они с жадностью торопили эту новую жизнь, которую теперь не могли представить без прочного покоя, без полной радости благоустроенного семейного единения, без достатка. Они имели право…
— Н-но! Пошел, дьявол, — взмахнув вожжами, кричит кучер, и подвода, груженная хламом, дребезжа сзади примятым казанком, катит со двора. Вздыхая, жильцы смотрят вслед. И я вижу, как бессильно опадают их руки и лица замирают в выражении полудосады, полугрусти.
Конечно, не жаль кирзовых дырявых сапог или вон той латано-перелатаной шахтерки, в которой кто-то ходил в нашем дворе. А может, то брезентуха бабушки Нюсиного сына, который пропал без вести в самом конце войны, или мужа тетки Насти — красного подпольщика, брошенного фашистами в шурф шахты у нее на глазах. И вот сейчас, глядя вслед катящей со двора подводе, тетка Настя увидела в ней, в брезентухе этой, его, единственного, живого и невредимого.