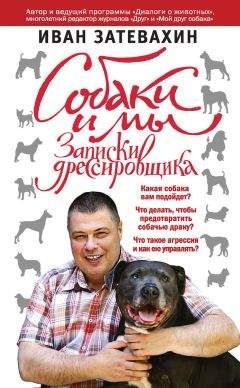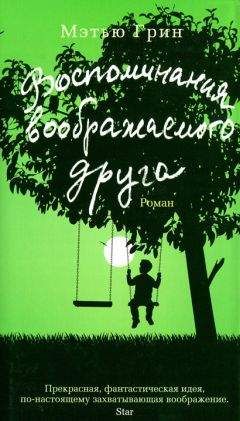Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
— Я бы завопил от боли…
— А вот он поступил умнее, потому что знал: увлечение пройдет, жена раскается и вернется к нему и детям…
Трамвая по–прежнему не видно. Наверно, где–нибудь произошла авария.
Уже совсем темно. Пешеходы движутся по тополиной аллее длинной темной процессией, только иногда блеснут под фонарем чьи–то очки.
— Однажды вечером, ничего не сказав тебе, я сяду в самолет и улечу. На другое утро ты прочтешь в газете, что самолет не приземлился ни на одном из аэродромов. Его прах рассеялся в небе — на облаках и звездах… Я часто уезжала от тебя раньше, но с той минуты мы будем неразлучны. На какую звезду ни взглянешь — непременно подумаешь обо мне: ведь и там мой прах… Романтично, правда? Как в твоих книжках.
— Ты чем–то расстроена. Включи, пожалуйста, радио. Люблю слушать музыку, когда в комнате темно и светится только шкала приемника…
Златина смотрит на часы. Уже целую вечность стоит она на остановке. Тот, кто ее ждет, наверно, уже потерял терпение и звонит ей домой. Но на другом конце провода раздаются глухие сигналы — как будто кто–то стонет во сне.
Вдали показалась машина. Ослепительно горят фары. Следом — вторые, третьи. Слышится вой сирены. Может, это машина «скорой помощи»? Или участники международного ралли, о котором утром сообщали газеты?
Первая машина проносится мимо — низкая, приплюснутая, вытянутая, как веретено, обмотанная воздухом и свистом. Она делает резкий поворот, задние колеса подскакивают и горящие угольки стоп–сигналов исчезают за темной стеной тополей.
Вторую машину Златина не успевает разглядеть, потому что фары впиваются прямо в нее. Барьер трещит, взлетает высоко над ее головой. Златина падает на рельсы. Лучи фар волокут ее по холодному металлу, вцепились в волосы, и она чувствует спиной жесткие ребра рельсов. Потом темная стена над нею сдвигается, и Златина видит бледный лоскуток неба…
Небо ли это? Нет, она стоит над Коринфским перешейком, внизу — узенькая, как ленточка на берете, который она носила гимназисткой, синяя полоска воды. Златина облокотилась о парапет, смотрит на пароход — он плывет вдали, крохотный, как бумажный кораблик, — любуется морскими ласточками, которые проносятся под мостом, бросает горсть розовых лепестков олеандра. Лепестки плавно опускаются, кружатся, снова всплывают вверх вместе с потоком воздуха и устремляются к ласточкам, которые целыми стаями вылетают из–под моста, — и за эДими густыми, темными клубами кораблика уже не видно (а может быть, это клубы дыма и кораблик горит?). Остается лишь холодное, насквозь пронизывающее прикосновение парапета…
— Человека убило! — кричит кто–то.
Она не слышит. Ее глаза обращены к небу, и в них отражается бледная полоса Млечного Пути…
Это случится апрельским вечером, через восемь месяцев после того, как Златина вернется из последней своей поездки…
Могла ли она предчувствовать это в то сентябрьское утро, когда стояла у парапета над Коринфским перешейком и тень от моста рассекала надвое сверкающую ленту канала? Могла ли она допустить, что эти ласточки, которые стремительно носились и звенели в воздухе, будут последним, что она увидит в жизни?
Ничто тогда не предсказывало этого.
Кипарисы плавно раскачивали свои тонкие верхушки, пароходик тоненько гудел, будто кто–то дул в ивовую дудочку, и будущее казалось далеким–далеким городом по ту сторону высоких гор… Надо не мысленно, а ногами добраться до него, и тогда увидишь его по–настоящему: пройдешь по его улицам, в утреннем свете из приоткрытых окон, под гулом колоколен, мимо банков для мусора, откуда выглядывают жирные рыжие кошки со злыми глазами, рассеченными длинным зрачком…
Дорога была нескончаемой. Фары автобуса разрезали густой мрак (в их свете был виден легкий танец дождевых капель), их лучи пробегали по корням кипарисов — темно–оранжевые, словно выкованные из меди, они свисали по склонам придорожных рвов. Свет фар раскачивал ветки гранатовых деревьев, оттуда вылетали красные птицы и исчезали в дегтярной темноте ночи. А может, то были плоды граната, которым страх придал крылья…
Казалось, на краю света осталась пристань Эгион, откуда они выехали под вечер. Городские колокола призывали к вечерне, и Мартин, стоя на палубе, смотрел, как эти заполнившие воздух звуки рассыпаются над заливом, точно кусочки станиоли. Уплывающий пароход растянул их по всему морю, сплел из них огромную сверкающую сеть и тянул ее за собой, а Мартин думал о том, что, когда они причалят к другому берегу залива и эту сеть вытащат на берег, он снова увидит в ней весь Эгион — с зажженными закатом окнами, с двумя огромными чинарами на пристани и даже с той девушкой, которая пила пиво, такое же янтарное, как ее длинные, до пояса, волосы, и улыбалась — не то Мартину, не то своему отражению в воде; увидит облака — они затянули собой все море, и только диву даешься, как это такой тяжелый пароход плывет по бесплотным просторам облаков и не тонет; увидит пойманные этой сетью горы, похожие на рыб с плавниками из ослепительно–белого снега.
Но когда к полуночи они подплыли к другому берегу, Мартин понял, что сеть, сплетенная звуками эгионских колоколов, порвалась, утонула в морской пучине, и остался от нее только зацепившийся за корму лоскут (потом он понял, что это лучик капитанского фонарика). Все поглотила морская пучина, и на незнакомой пристани реально существовал лишь свет редких фонарей, хриплый голос капитана, его фонарик да мутное отражение прибрежного квартала, который ворочался — его сон потревожили — и перед тем, как снова уснуть, натягивал на плечи темноту…
Сейчас автобус взбирался на вершину горы.
Свет фар скользнул по высоким каменным оградам, коснулся домиков, лепившихся по крутому склону, шевельнул на узких, почти отвесных улочках их тени, и мгновение спустя автобус, содрогаясь от гула своего мотора — такого громкого, словно он проезжал по туннелю, — пополз между витрин, в которых отражалось его медленное движение. Он подъехал к тротуару на маленькой площади и остановился.
Прибыли в Дельфы.
Оставив чемодан в номере, Мартин вышел пройтись, пока его попутчики, уставшие после долгой дороги, стояли под душем в узких гостиничных ваннах. За каждой стеной слышался несмолкаемый шум воды, как будто дождь, сопровождавший их всю дорогу, проник сквозь крышу гостиницы.
Он шел по улице, подняв воротник плаща. Приятно было чувствовать на лице холодящее прикосновение капель и видеть на тротуаре свою тень, по которой суетливо прыгают дождевые пузыри.
Городок спал. Он напоминал горные села на родине Мартина. Домики лепились на крутизне один над другим, и Мартину подумалось, что такие дома не могут спать спокойным сном — один глаз у них всегда должен быть приоткрыт, как у зайца: ведь малейшее движение во сне, и они скатятся в пропасть…
По другую сторону гостиницы светилась витрина магазина сувениров. За стеклом стояли вазы, формой и рисунком напоминавшие сосуды, которые извлекали со дна моря или находили при раскопках древних городов. В глубине магазина Мартин увидел трех человек. Их руки в светлых кругах трех ламп держали глиняные вазы. Лиц не было видно. Он не сразу понял, живые это люди или манекены. Вглядевшись пристальней, Мартин убедился, что руки — живые.
В этот полуночный час трое художников рисовали по глине. Как будто все трое опасались, что не доживут до зари, и торопились закончить то, чему посвятили свою жизнь.
Мартин подумал, что над ними возвышаются Дельфийские горы — древнее святилище, и что в шуме дождя, быть может, слышатся шаги Пифии или Ореста, и вот отчего так сосредоточены, отчего выглядят почти призраками люди по ту сторону витрины. Ему почудилось, что их глаза, неразличимые за абажурами, дружески улыбаются ему.
Было свежо, прохладно. С неба вместе с дождем струилась тишина, пронизанная тонким ароматом кипарисовой смолы.
Окруженный стенами древнего города — в темноте их было не видно, но слышался шорох дождя по мраморным ступеням — и видениями, которые вдохновляли художников за витриной, Мартин впервые испытал незнакомое ему прежде чувство. Что это было: душевный подъем после утомительного путешествия, волнение оттого, что он соприкоснулся с этим неведомым миром, или тревога, в которой предчувствие скорее радости, чем горя?.. Он не мог этого точно определить, но испытывал необычную бодрость — так бывает после долгой бессонницы, когда уже не хочется спать, а тянет поговорить с кем–нибудь (глаза, наверно, блестят, как у лунатика), брести под дождем и улыбаться чему–то (чему, ты и сам не знаешь) …
«Такое находит иногда в детстве, — размышлял Мартин. — Радуешься чему–то, что где–то рядом, что тебе предстоит испытать. Горячо говоришь, смеешься. И кажется странным, что окружающие не разделяют твоей радости… Взрослые люди с издерганными нервами испытывают нечто подобное только в минуты сильного возбуждения: после любовного свидания, которого давно и страсти?) желали, или после того, как удалось избежать смертельной опасности.