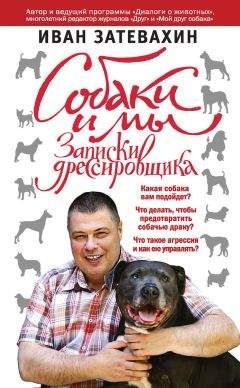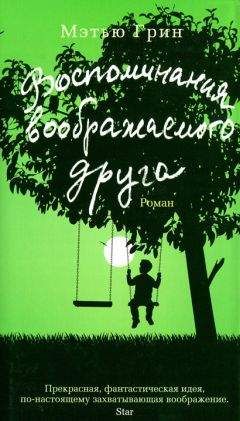Иван Давидков - Прощай, Акрополь!
Эти чувства были неведомы Златине.
Мартин стоял перед витриной магазинчика, где торговали велосипедами. Хозяин пригласил его войти, показал один из множества стоявших у стены велосипедов.
Это был немолодой человек в очках, с выпуклыми, как лупы, стеклами, из–за которых глаза казались испуганными и чересчур большими для его маленького, сухого лица. Он что–то с жаром объяснял на своем незнакомом Мартину языке, но, следя за отрывистым звучанием его речи, которая напоминала свист велосипедных спиц, Мартин догадывался, что хозяин расхваливает свой товар. Грек соглашался сбавить цену: написав на листке бумаги цифру, он тут же зачеркивал ее и писал другую. Глаза его при этом хитро поблескивали, опутывая единственного покупателя своим сверканием — подобно тому, как продавщица в конце прилавка обматывала нейлоновый шпагатом какой–то сверток, — и Мартин чувствовал, что нелегко порвать паутину, сотканную этим пауком.
Велосипед ему нравился. Сын обрадуется подарку.
Хозяин магазинчика, наверно, не уступил бы ни единой драхмы, знай он, какой волшебный велосипед продает человеку, который не понимает ни одного его слова — в них было столько шипящих, как будто у грека в каждом зубе дупло и звуки со свистом вырываются из темных отверстий.
На этом велосипеде мальчику предстоит проделать путь — короткий или бесконечно долгий, пока неизвестно… Мартин давно перестал верить в чудеса, но сейчас ему казалось, что чудо непременно произойдет.
— Я турист, — сказал он греку. — И не могу таскать за собой велосипед по всем городам. Через несколько дней, на обратном пути, я загляну к вам. Тогда и куплю…
Хозяин пожал плечами, поставил велосипед на прежнее место и, обронив еще несколько слов, вероятно: «Вот жмот» или «Сколько дураку ни толкуй, все равно не втолкуешь», — отошел в глубь магазина.
Резкий блеск его очков пробивался сквозь развешанные по стенам велосипедные камеры и тонкие, как паутина, спицы.
Апрельским вечером, спустя восемь месяцев после возвращения из Греции, Златина будет стоять на остановке и ждать трамвая, который повезет ее в дом к тому, с кем она тайно встречалась вот уже больше года, кому поздней ночью писала в приморских гостиницах длинные письма. В окна гостиниц были видны огни уплывающих к горизонту пароходов — такая же полоска огней зажжется в тот апрельский вечер у подножья горы и в тополиной аллее вдоль трамвайной линии. Вечернее небо еще не успеет потемнеть, и они будут казаться совсем бледными. Трамвая долго не будет. Небрежно помахивая сумочкой, Златина облокотится о железный барьер, отделяющий тротуар от мостовой, и будет думать о человеке, который ждет ее сейчас…
Он уже сварил кофе, расставил на столе чашечки — высокие, с розовым ободком и тонкой, плавно изогнутой, тоже розовой ручкой, похожей на ушко ребенка. Каждый раз, когда Златина бралась за эту ручку, ей представлялось, что перед ней не бархатный кружок крепкого кофе, а виноватый глаз мальчугана, которого она с напускной строгостью однажды отодрала за ухо.
Человек, с которым она тайно встречается, посматривает сейчас на часы, задергивает занавески, зажигает лампу в углу (на абажуре наклеены сухие листья, и свет лампы делает их бесплотными, будто нарисованными тушью). Потом он включает радио и, положив ногу на ногу, пускает струйки дыма из сигареты, которая подрагивает в такт музыке.
Он ищет, но шагов па лестнице не слышно.
Шаги раздаются на тополиной аллее по другую сторону трамвайной линии, возле которой стоит Златина. Наверно, что–то случилось, прошло уже полчаса, а трамвая все нет. Люди идут пешком, тащат сумки с овощами, чемоданы… Раскачиваются перекинутые через руку пальто. А двое несут связку водопроводных труб, которые чуть не падают у них из рук и звенят при каждом шаге…
Она сказала Мартину, что вечером идет к подруге. Давно не виделись, хочется поболтать. «Сидит, роется в книжках, — думает Златина, — и даже не подозревает, что у любимой женщины есть своя тайна, что она стоит сейчас на трамвайной остановке…»
Мимо проходят несколько пожилых женщин. Морщинистые лица. Высохшие ноги. Редкие волосы, собранные в пучок, прячутся под старомодной шляпкой с черной вуалеткой… Трамвая все нет, и Златина провожает старух взглядом. Неужели и они когда–то ждали вечера, чтобы под покровом темноты постучаться в чью–то дверь, за которой их ожидают жаркие объятья?..
Златине кажется невероятным, что мужская рука ласкала эти усталые тела, за которыми медленно тянутся зыбкие тени… Кто из них жил монашенкой, а кто был грешницей? Теперь не отгадать. Каждая получила от жизни то, что сумела взять от нее. А что от всего этого осталось? Воспоминания… Если были у тебя в жизни радости, то есть к чему вернуться вечером, когда моешь под краном вставные челюсти, а по теням стиранного белья ползают огромные неуклюжие мухи…
Так размышляет Златина и смотрит вдаль, где почти сходятся вместе острые лезвия трамвайных рельсов.
А трамвая все нет.
Если бы Мартин мог прочитать ее мысли, он оторвал бы глаза от книги и, потерев пальцами усталые веки, сказал бы ей:
— А зачем, собственно, брать от жизни, да еще больше, чем тебе полагается? Благороднее — давать…
— Ты стал совсем не от мира из–за своих фолиантов и ничего в жизни не понимаешь… — возразила бы она.
— Почему?
— Потому что иначе ты вряд ли бы верил, что кто–то отделил твою долю радостей жизни и она хранится в надежном месте, пока ты освободишься от работы и придешь за ней — будто это письмо до востребования.
— А ты не допускаешь, что работа для меня тоже радость?
— Допускаю. И все же сомневаюсь, что она для тебя — всё. Ведь ты человек из плоти и крови, и в один прекрасный день эта плоть взыграет, твое счастье, если не слишком поздно…
— Я всегда старался обуздать свою плоть.
— А я всегда ненавидела это насилие над собой. С детства. Помню, мимо нашего дома ломовые лошади тащили грузы с пристани. Уздечки у них всегда были мокрые от пота и пены. С тех пор я ненавижу узду и тех, кто ее придумал… Ты знаешь, как я люблю путешествовать. Так я пытаюсь порвать свою узду. А ты не понимаешь, для тебя это причуды, легкомыслие…
— Узду нелегко порвать, она крепкая.
— А вот я езжу по белу свету и не чувствую ее. Дороги, порты, аэродромы помогают мне радоваться жизни.
— А может, новые встречи, новые чувства?
— Вот что тебя волнует? Успокойся! Наши с тобой отношения от этого не пострадают. Я нужна тебе не потому, что ты так уж меня любишь. Тебе нужно занимать меня своей особой, нужно, чтобы я восхищалась тем, что ты делаешь. Ты боишься одиночества. И надеешься, что у меня хватит сил прогнать его из твоей души.
— Умные люди говорят, что мужчина и в пятьдесят еще может заслужить благодарность женщины…
— Вероятно, эти мудрецы не тебя имели в виду.
— Ты становишься злой.
— Ошибаешься — искренней! Можно привезти тебе к твоему шестидесятилетию шишку с кипарисов Акрополя и веточку олеандра, сорванную у Фермопил? Надеюсь, до тех пор мне еще удастся там побывать.
— Спасибо. Я поставлю эту веточку в вазу у окна, буду смотреть на нее и думать о тебе…
— И разбирать меня на части, как игрушечный автомобильчик, о котором ты мне рассказывал: винтик — сюда, колесико — туда. Сюда — измену, туда — некрасивый поступок, А где живой человек, который смеется, страдает, любит и ненавидит, которого надо принимать таким, каков он есть, со всеми его причудами, и при этом — любить? Неужели тебе доставляет удовольствие соприкасаться с тем, мимо чего ты мог бы просто пройти и таким образом избавить себя от лишних неприятностей?
— Нет, конечно, наоборот…
— А знаешь, что ты найдешь, если развинтишь игрушку, которая называется Златиной? Страстную любовь к учителю гимнастики. Он был сложен как бог. Все гимназистки были от него без ума, но он остановил свой выбор на мне и пригласил меня к себе домой. Там я впервые ощутила сладость и боль любви. В городе стало известно о наших отношениях. Учителя уволили, а меня перевели в другую гимназию. Отец хотел убить его, чтобы отомстить за поруганную семейную честь. А я любила этого человека и покончила бы с собой, если бы с ним что–нибудь случилось. Это только одно колесико твоей игрушки. На других винтиках и гаечках тоже есть ржавчина.
— На твоем месте я бы презирал этого негодяя…
— А вот я люблю его и по сей день. Знаешь, одному человеку сказали, что жена наставляет ему рога. Даже повели показать квартиру, где она встречается с любовником. Он своими глазами увидел, как они вместе поднимаются по лестнице. Но он сказал: «Вы ошиблись, это вовсе не она!» — и пошел домой.
— Я бы завопил от боли…
— А вот он поступил умнее, потому что знал: увлечение пройдет, жена раскается и вернется к нему и детям…