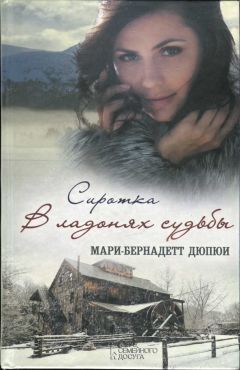Сиротка. Слезы счастья - Дюпюи Мари-Бернадетт
– Да, правильно! – воскликнула Лора. – Нам следовало подумать об этом еще раньше. Работа и дисциплина – вот два замечательных лекарства от зловредного характера. Кроме того, Констан побаивается своей старшей сестры, которая умеет подчинять его своей воле. Я не упрекаю тебя, Мадлен, но ты с ним слишком уж мягка.
– Возможно, – не стала возражать индианка. – Впрочем, нужно было бы спросить у Эрмин и Тошана, придерживаются ли они такого же мнения.
Лоранс поначалу огорчилась (хотя и не подала виду), а затем, поразмыслив, пришла к выводу, что предложение Овида было очень разумным и уместным. Она вполне обоснованно побаивалась того, как может отреагировать Овид на страсть, которая, как ей казалось, зарождалась между ними двумя. Констан был бы идеальной преградой, не позволяющей им дать волю своим желаниям, а также гарантией того, что они и дальше будут проводить время вместе. В этом предложении Овида она узрела лишь его стремление сберечь их любовь.
Владения Патрика Джонсона, провинция Онтарио, тот же день
Киона заперлась в своей комнате, на двери которой имелась задвижка, правда, скорее символическая, чем настоящая. Кто угодно мог бы, резко навалившись плечом, сломать этот хрупкий механизм. Кионе частенько приходила в голову эта мысль. Ее теперь то и дело охватывал панический страх. Днем у нее было так много работы, что мысли оставляли ее в покое, а вот ночью начинали мучить с новой силой. Ей снова и снова казалось, что ее продолжает избивать, злобно ухмыляясь, Делсен и что она опять чувствует его неприятные прикосновения к своему телу.
Если бы не лошади мистера Джонсона, она убежала бы вглубь леса и стала бы там умолять Маниту и Иисуса избавить ее от этих кошмаров. Она не хотела покидать этих животных, которые проявляли к ней дружеские чувства, привязанность и даже нежность. Она знала о них все: что происходило с ними в прошлом, чего они боятся, от чего они страдают. Ее общение с ними так восхитило мистера Джонсона, что он решил, что, наверное, наймет этого удивительного конюха не на лето, а на целый год. Благодаря «Бобу» Джонсону удалось решить несколько проблем, которые возникали у него с его кобылами, жеребцами и его любимым скакуном – Винтернайтом. Этот черный конь, кстати, как и предсказывал юный конюх, одержал победу на очередных воскресных скачках.
– Этот парень меня изумляет, – снова и снова говорил Джонсон своей дочери, когда они завтракали или ужинали вместе. – Несколько веков назад его наверняка сожгли бы на костре, однако он оказывает мне очень ценные услуги. Да, этот парень меня изумляет!
– Я это вижу, папа, – кивала в ответ Эбби, тайно всей душой надеясь на то, что Боб проработает на конюшнях ее отца еще не один месяц.
Эбби, пользуясь отсутствием своей матери, предоставила сама себе полную свободу. Ее мать – Оливия Джонсон – находилась сейчас в Нью-Йорке, у своей старшей сестры. Эбби, будучи у своих родителей единственной дочерью, жила так, как ей вздумается, ибо ее отец был слишком занят для того, чтобы успевать присматривать за дочерью. Киону это очень расстраивало, поскольку она уже не знала, как ей избавиться от заигрываний этой юной девицы, уверенной в своей неотразимости и пленительной красоте.
За десять дней, которые прошли с момента появления на конюшнях «Боба», Эбби уже раз сорок меняла блузку и раз десять – прическу. Она вдруг стала сильно интересоваться нелегкой работой конюхов, хотя раньше относилась к ней с насмешкой и презрением. Эбби по любому малейшему поводу заглядывала на конюшни и неизменно ходила по пятам за «Бобом».
«Если она будет продолжать в том же духе, я отсюда уйду», – в конце концов решила Киона.
Впрочем, ей было жалко Эбби из-за того, что та увлекалась «Бобом», которого в действительности не существовало, – этим немногословным и даже замкнутым Бобом, который был попросту не в состоянии ответить ей взаимностью. Прошлым вечером Эбби удивилась тому, что у «Боба» почти отсутствует волосяной покров на теле и что у него уж очень милые черты лица. Похихикав по этому поводу, она шепотом сказала, что никогда еще не встречала такого красивого парня…
Киона разделась, с удовольствием стянув с себя полотняную спецовку и плотную хлопчатобумажную рубашку, в которой ей было очень жарко. Стоя в лифчике и трусиках, она посмотрела на свое изображение в зеркале. Синяки на лице исчезли, а разбитая нижняя губа зажила. На ее теле еще оставалось несколько желтоватых следов от синяков, которые тоже уже исчезали. Ей показалось, что ее мышцы окрепли и округлились оттого, что ей частенько приходилось на конюшнях толкать перед собой тяжелые тачки, нагруженные навозом. Что касается ее волос, то они напоминали теперь золотистый ореол, поскольку короткие пряди немного завивались.
Она стала грызть сухое печенье, прихлебывая из стакана воду. Ближайшие часы будут тянуться очень долго. Она это знала. Ей предстояло дождаться полуночи, чтобы затем спуститься в конюшню, в которой находились самые ценные лошади. Там она растянется на соломе ногами в сторону мерина рыжей масти, у которого было странное имя – Brother. В переводе с английского оно означало «брат». Когда поблизости никого не было, Киона его так и называла – Брат. Эта конюшня была единственным местом, в котором мучившие ее жуткие видения теряли свою силу и которое она поэтому считала своим убежищем.
Усевшись на край кровати, Киона мысленно произнесла свою обычную молитву, представлявшую собой перечисление тех, кого она любила и кого решила навсегда покинуть: «Мин, папа, мой братишка, Лоранс, Мари-Нутта, Мадлен, Катери, Констан, Тошан, Лора… да, и ты, Лора! Шарлотта, месье Жозеф, Луи, Мукки, простите, я вас забыла. Мама, Тала-волчица, Тала, Тала…»
Киона убаюкала себя этими двумя слогами, которые вызывали у нее мучительные воспоминания о матери. Она снова увидела ее иссиня-черные косы, рот с тонкими губами и высокие скулы.
«Это ведь ты явилась мне в тот вечер возле озера Онтарио, не так ли? В тот вечер, в который я утратила свои крылья, свой природный дар и способность получать радость от жизни… Ты явилась в образе волка – великолепного волка, – но ты меня не защитила и мне не помогла».
Задыхаясь от хлынувших из ее глаз горьких слез, Киона легла на кровать и прикрыла глаза ладонями. Она уже устала оттого, что ей приходится устраивать этот спектакль, заставлять себя говорить низким голосом, терпеть грубость Морриса, который не испытывал к ней большой симпатии, слушать откровения старого Джека, который, не стесняясь, рассказывал ей о своих давнишних любовных похождениях, поскольку был уверен, что разговаривает с молодым парнем, которого нужно учить одерживать победы над женщинами.
«Завтра я отсюда смоюсь, – подумала Киона, одолеваемая дремотой. – Возьму велосипед, куплю билет на поезд и отправлюсь на запад. И почему бы мне не позвонить домой, моему любимому папочке?»
Устроившись здесь на работу, она спрятала украденный у китайцев велосипед в глубине небольшого здания, заваленного уже не используемыми бочками, досками и ржавыми инструментами. А мысль о том, чтобы позвонить домой с помощью телефонного аппарата, который имелся в кабинете мистера Джонсона в одной из конюшен, преследовала ее уже давно. Лишившись своей экстраординарной способности вступать в контакт с родственниками, она долго сомневалась, написать ли им письмо или же позвонить по телефону, и в конце концов решила не делать ни того ни другого, поскольку считала саму себя преступницей.
Твердо решив отсюда уехать, но уже чувствуя тоску из-за предстоящей разлуки с лошадьми, которые позволили ей открыть в себе способность телепатического общения с животными, Киона и не заметила, как задремала. И тут вдруг у нее началось видение. Она увидела, как на краю ее кровати сидит Делсен. Вид у него был миролюбивый, а голова обмотана бинтами.
«Тебе лучше вернуться домой, Киона, – сказал он. – У нас с тобой никогда бы ничего не получилось. Ты для меня слишком умная, слишком скромная, слишком красивая».