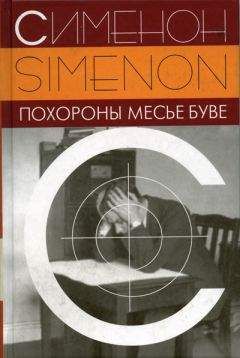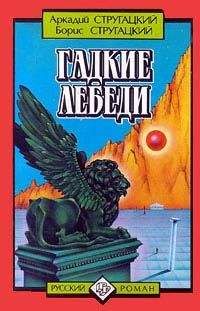Гадкие лебеди кордебалета - Бьюкенен Кэти Мари
Дважды я пыталась встретиться, и дважды Антуанетта отказывалась ко мне выходить. Еще через две недели я отправила к ней маман.
— Ей плохо без матери. Ты должна пойти.
Не далее как сегодня утром маман заворочалась на своем тюфяке и сказала, глядя в потолок:
— Старый Гийо поставил меня на отжимную машину. Ненавижу эту работу.
— Ну так сходи утром в Сен-Лазар. Отдохнешь немного.
Она приподнялась на локте.
— А попробую.
— Передай Антуанетте кое-что, — я протянула ей сложенную статью «Юриспруденция и Эмиль Абади» и деньги на омнибус. Любая из монашек расскажет Антуанетте, что там написано. Маман умчалась быстрее молнии.
Я стою у станка, делаю наклоны и думаю, что не стоило вчера скулить и рыдать на своем тюфяке. Из-за этого я встала так поздно, что в Оперу пришлось бежать, чтобы успеть до того, как запрут дверь в класс. Мадам Доминик смерила меня строгим взглядом, когда я, запыхавшись, проскользнула мимо нее, потянув за уже закрывающуюся дверь. Я уже третий раз стою у станка, мучаясь головной болью. Впрочем, я ее заслужила, потому что накануне выпила слишком много абсента. Но сегодня рутинные экзерсисы — за рон-де-жамб всегда следует батман тандю — бальзамом ложатся на мои усталые нервы, вытесняют все лишние мысли, успокаивают разгоряченный ум.
В середине зала от нас требуют серию гран-жете-ан-турнан, и я вдруг чувствую подъем и приземляюсь с легкостью, которая не давалась мне неделями. Потом мадам Доминик вызывает меня в первый ряд. Когда девушки уходят, она говорит:
— Сегодня получше.
Я киваю и жду, взявшись одной рукой за локоть другой. Когда можно будет идти, она скажет «свободна».
— Опера, — говорит она, — это твой шанс.
Я прижимаю руку к сердцу.
— Я хочу танцевать. Я исправлюсь. Я перестану опаздывать, — говорю я сама верю в это.
Она мрачно смотрит на меня, наклонив голову набок и поджав губы. Она мне не верит. Я стараюсь не отворачиваться, не облизывать губы и не шаркать, как поступил бы на моем месте любой врун.
Она делает резкий вдох, выдыхает через нос и говорит:
— Вчера приходил месье Лефевр.
Прошло семь вторников с того дня, как он подарил мне серое шелковое платье и сказал, что я хожу как оборванка и позорю его. Я надеваю это платье, когда иду к нему, и каждую неделю происходит одно и то же. Он заходит за мольберт, его колени ходят взад-вперед, вот только теперь он позволяет брюкам упасть на пол, а не придерживает их наверху, чтобы мы могли притворяться, будто ничего не происходит. На прошлой неделе, когда его стоны и пыхтение затихли, он вдруг злобно проговорил, выплевывая слова, словно тухлое мясо:
— Ты опять вся покраснела и взмокла!
Он толкнул мольберт, как будто не видел смысла рисовать такую похотливую девицу. Но, как пчеловод привыкает к укусам, так и я тряслась уже гораздо меньше, чем семь вторников назад.
Мадам Доминик с силой трет ладони друг о друга.
— Он просил научить тебя танцу рабыни. Месье Меранту нужно еще шесть девушек, и они договорились, что тебя возьмут.
Премьера «Дани Заморы» была назначена на первое число, и половина Оперы сходила с ума. Почти тридцать лет назад месье Гуно подарил миру чудесную «Аве Мария», а потом оперу под названием «Фауст». Мадам Доминик говорит, что это лучшая опера, которую когда-либо ставили на этой сцене. А теперь месье Вокорбей постоянно говорит, что «Дань Заморы» снова принесет нашей Опере славу. Все знали, что премьера должна была состояться в начале года, но ее отложили, потому что месье Гуно хотел переписать музыку. Ходили слухи, что у него хватило храбрости попросить у месье Вокорбея еще три месяца отсрочки.
— Хватит выдумывать, — якобы ответил тот. — Премьера состоится первого апреля.
Это история девушки по имени Займа, которую украли у жениха, чтобы отдать маврам — после взятия Заморы испанцы обязаны были поставлять им по сотне девиц в год. На репетициях я изображаю одну из девственниц, то есть дважды пересекаю сцену глиссадами и стою на заднем плане во втором акте, когда происходит аукцион. Поначалу я восторгалась декорациями — говорили, что их срисовали с замка в Испании, который называется Альгамбра, но вообще репетиции были долгие и скучные, и я снова начинала думать об Антуанетте. Она, сидя в камере, растравляла в себе ненависть. Она забыла о пирушке на Монмартре, о савойском пироге на ее именины, об апельсиновых мадленках, которые порой давал мне Альфонс — он не возражал, что я сберегаю некоторые для сестры. Я убеждаю себя, что меня не смущает такая жалкая роль. Это же опера, а не балет. Всего десять девушек из кордебалета — и ни одной из второй линии, даже Бланш, — не отобрали для дивертисмента в третьем акте. Танцев тут всего ничего — грузинский, тунисский, кабильский, мавританский и танец рабынь. Они исполняются якобы для того, чтобы рассказать, как новый хозяин девушки завоевывал ее сердце. Но на самом деле все знают, что танцы вставлены в оперу только для удовольствия богатых мужчин.
Месье Мерант повторял, что если балерин будет мало, ценители начнут скучать. Мадам Доминик размахивала тростью, задирала голову так, как будто та могла упасть, и твердила нам, что мы должны смотреть репетиции и учить все па, просто на всякий случай. Через некоторое время среди кордебалета пошли слухи, что месье Мерант всегда настаивает на своем. Довольно скоро балерины стали набиваться в кулисы во время репетиций, пытаясь рассмотреть происходящее на сцене, и потом делились увиденным друг с другом.
— Я поняла, как танцуется тунисский танец.
— А я могу показать мавританский, я все-все па выучила.
И обе отходили в какой-нибудь уголок, где их не могли видеть другие. Я скучала у железных опор и думала, отпустят ли нас пораньше, чтобы я успела в Сен-Лазар, и выйдет ли сегодня ко мне Антуанетта.
Но теперь, когда маман отнесла Антуанетте «Юриспруденцию и Эмиля Абади», я вытягиваюсь перед мадам Доминик.
— Я вас не подведу.
— Месье Мерант не выносит опозданий. Он выгоняет опаздывающих девушек.
Я киваю.
— Я знаю десяток девушек, которые танцуют лучше тебя, даже во второй линии кордебалета. Бланш разучила большую часть танца рабынь самостоятельно.
Я опускаю глаза под ее немигающим взглядом. Как я жалею теперь о тех часах, когда я скучала под опорой. Пойдут разговоры, фырканье, поднятые брови. По крайней мере, среди девушек, учивших эти танцы. Как я смогу посмотреть Бланш в глаза?
— Завтра, — говорит мадам Доминик. — Придешь на час раньше.
Я все еще смотрю в пол, а она чего-то ждет, не торопясь отпустить меня. Наконец она говорит:
— Хорошо, что месье Лефевр интересуется твоими делами.
Могу ли я рассказать о цинковой ванне, о раскинутых ногах, об упавших на пол брюках? Я смотрю на мадам Доминик. Лицо ее спокойно, губы сжаты, и я молчу. Она хочет, чтобы в ее классе и на сцене я была изящна, как нимфа. Как сильфида. Никаких грязных туфель. Никакой разверстой плоти. Никаких следов улицы, которые могли бы испортить волшебство.
— Я позирую для него.
— Хорошо. — Она снова потирает ладони, как будто пытается стереть с них грязь.
Сгорбившись у печки, я кидаю в кипящий бульон две морковки, картошку и объедки жареной курицы, соскобленные с костей. Входит маман, радостная и довольная, с новостями из Сен-Лазар.
— Антуанетта там отдыхает, — она принюхивается. — Что это там, курица?
— Ты отдала ей газету?
Она садится на корточки рядом со мной, протягивает руки к огню.
— Да, Мари. Как ты просила. — Она гладит меня по щеке, почти нежно. — Ты обещала, что не будешь больше плакать.
Я помешиваю суп и думаю, не добавить ли соли.
— И спать слишком долго не буду, — я улыбаюсь ей.
Она берет дочиста обобранную кость из небольшой кучки и ломает ее пополам.
— Ты же не хочешь вылететь из кордебалета.
Сует обломанный конец в рот и высасывает мозг.