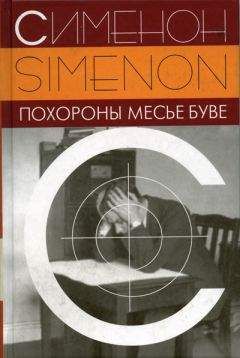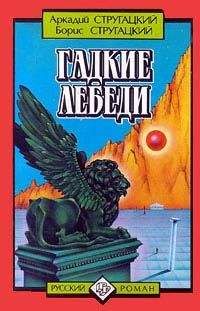Гадкие лебеди кордебалета - Бьюкенен Кэти Мари
Потом месье Лефевр дал мне тридцать франков и сказал, что это мое новое содержание. Я не стала отказываться. Катехизис был давно. Может, я вообще перепутала, что там написано. Антуанетта — если бы нашла хоть минуту задуматься о какой-то старой книжке — сказала бы, что это чепуха, которую сочинили священники из любви к правилам. Хотя нет, Антуанетта очень смелая и всегда говорит, что думает. Она не стала бы лежать, раскинув ноги, перед мужчиной.
Со сцены зрительный зал кажется черной жадной дырой. Я чувствую дыхание людей, чувствую тысячи взглядов. Сердце бьется оглушительно, я двигаюсь только потому, что знаю шаги бретонского танца так же точно, как свое имя. Мысли быстро бегут вперед. Локти мягче, плечи ниже, рот закрыть. Я хватаю Перо и Эми за руки — эту часть мы танцуем вместе. Это было уже сто раз, но никогда раньше у них не было таких влажных ладоней. Как бы мы ни ухмылялись за кулисами, как бы ни шептались «Наконец-то сцена», мы все боимся. И тогда я понимаю, что не споткнусь, не упаду и не перепутаю шаги. Голоса в моей голове смолкают.
Иногда такое бывает и на занятиях, когда я танцую особенно хорошо. Тогда музыка наполняет меня изнутри, а потом изливается наружу. Это — чистое удовольствие от танца, от распрямляющихся коленей, от дыхания, от прикосновения к доскам пола. Это нельзя объяснить словами, это мгновение восторга и хрустальной ясности. Я ощущаю чудо жизни, печаль смерти, радость любви и понимаю, что они едины для всех живых созданий на свете. Как бы я хотела, чтобы этот миг длился и длился! Но потом на сцену выпархивает Росита Маури, и кордебалет отступает на свое место среди домиков и кустов. Теперь я хочу, чтобы этот миг вернулся. Чтобы он наступил еще раз.
Приходилось ли Антуанетте чувствовать что-то такое? Вряд ли. Иначе она молчала бы перед месье Плюком, лишь бы пережить этот миг снова. А Шарлотта? Иногда мы встречаемся в театре, когда она спускается из класса, а я поднимаюсь, хотя ее занятие заканчивается за два часа до начала моего. Скорее всего, она сидит там, расставив ноги, и тянется лицом к полу. Она всегда расспрашивает меня про комбинации, которые мадам Доминик дает моему классу, интересуется моим мнением, достаточно ли высок ее кабриоль, мягко ли она опускается на землю, четко ли соединяет ноги в прыжке. Она приставала ко мне, вновь и вновь упрашивая показать ей бретонский танец, пока не выучила его наизусть. Шарлотта знала об этом волшебном миге.
Спектакль проходит отлично, на нас обрушивается гром аплодисментов. Месье Мерант носится, хлопает по спинам художников, этуалей, мадам Доминик и даже Перо, а весь кордебалет встает в линию для финального поклона.
— Занавес! Занавес! — взывает служитель. — Месье Мерант, займите свое место.
Занавес раздвигается. Первыми кланяются самые скромные участники, вторая линия кордебалета. Мы выпархиваем вперед и глубоко приседаем, держа руки в низкой второй позиции, заведя одну ногу назад. Нам сказано все делать быстро, зрители хотят аплодировать Росите Маури и Марии Саланвиль. Я смотрю на Бланш, ожидая, когда та наклонит голову влево — по этому сигналу бретонские крестьянки должны развернуться и мчаться назад. Но тут я чувствую мягкий удар и, робко посмотрев вниз, вижу у своих ног букет роз. И еще один. А потом еще два.
— Забирайте! — кричит мадам Доминик из-за кулисы.
Но разве цветы для меня? Я не могу понять. В следующее мгновение месье Мерант оказывается перед нами. Он опускается на одно колено, спиной к публике, и собирает букеты. С небольшим поклоном передает их мне.
Я хватаю гору роз — просто потому, что всегда беру то, что суют мне в руки, будь то хлеб, колбаса или газета. Я смотрю на Бланш, на ее алые щеки, распахнутый рот. Она наклоняет голову влево. Нам сказали бежать назад, тихо и грациозно, глядя на чепчик предыдущей крестьянки, но я не могу смотреть куда сказано. Я оглядываюсь на зал, залитый светом огромной люстры. Обвожу публику ищущим взглядом и вижу бешено аплодирующего месье Лефевра. Он стоит среди господ в черных костюмах, сразу за оркестром. Умирая от страха и гордости, я быстро киваю ему. Он улыбается шире, выше поднимает руки, и в свете на его лице я вижу отблеск будущей сильфиды.
1881
Le Figaro. Бедные…
Взявшись за перо, омерзительный Эмиль Абади спас свою шкуру и шкуру красавчика Пьера Жиля. Они тронули сердце президента Республики и избежали гильотины.
Я наблюдал за этим гуманистическим карнавалом, никак не комментируя всё усиливающееся опасное сочувствие общества к осужденным преступникам. Но теперь, когда президент Греви проявил своим указом милосердие, это заставило меня написать, что я думаю об этих злодеях, о которых было пролито столько слез.
Мало-помалу убийцы превратились в мучеников. Фиктивные мемуары Абади возбудили сентиментальные чувства читателей и самых легковерных моих коллег. Они изобразили Абади человеком, сбившимся с пути, но раскаявшимся. Теперь он якобы проводит ночи в молитве. Они сыграли на сыновней благодарности этого чудовища — а ведь, берясь за нож, он не думал о своей матери. Писатели превратили Жиля в кроткого, богобоязненного юношу, жалеющего о том, что он опозорил свою достойную семью.
Во время суда Абади не пролил ни одной слезы по своей матери, а Жиль не бросил печального взгляда на скамью, где сидела его опозоренная семья. Перед судом они были холодны и невозмутимы, и вплоть до самого вынесения приговора ничто их не трогало. Только узнав, что они осуждены на смерть, они почувствовали ужас. Убийцы, не пожалевшие госпожу Безенго, заставили других жалеть их.
Президента Греви обвиняли в бессердечии, поскольку он не спешил откладывать государственные дела, чтобы заняться этими преступниками, очаровавшими общественное мнение. Они убили женщину за восемнадцать франков, которые потратили на выпивку. Как мы смеем не быть к ним чутки! Я далек от чувства вины за перенесенные ими так называемые душевные муки. Наоборот, меня радует мысль, что четыре месяца Абади и Жиль тряслись, ожидая смерти.
Жалость свою я приберегу для людей более достойных. Я не позволю, чтобы эти два злодея отбыли в Новую Каледонию, увенчанные лавровыми венками.Антуанетта
Ангелочек — Жан-Люк Симар — любит, когда ему говорят, как он хорош в постели. Ему нравится слышать, что все те два дня, прошедшие с тех пор, как я впервые раздвинула перед ним ноги, я просто изнываю, мечтая о его члене — ему нравится, когда я употребляю именно это слово. Даже когда мы находимся среди других гостей, я тихо шепчу ему это на ухо.
— Я хочу, чтобы ты в меня вошел, — говорю я вместо приветствия, когда он появляется в алькове на верхнем этаже дома мадам Броссар. Я подхожу к дивану, где он сидит, и тихонько говорю ему:
— При виде тебя я становлюсь мокрой, — я наливаю ему вина и придвигаюсь ближе, — хочу почувствовать тебя.
Он вовсе не такой великолепный любовник. Он мальчик, который не может продержаться и двух минут, а зачастую я и этого ему не позволяю. Если я устала, злюсь или думаю больше о себе, я просто беру в руки его мужское достоинство и несколько раз нежно глажу, а потом берусь за дело всерьез. Он корчится, стонет и изливается, даже не успев снять с меня шелковое платье. И даже когда он лежит на мне голый, я могу дотронуться до одного местечка с очень мягкой кожей — прямо под его органом, где начинается мошонка. Если я касаюсь этого местечка, совсем несильно, его охватывает блаженство.