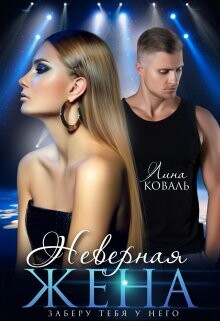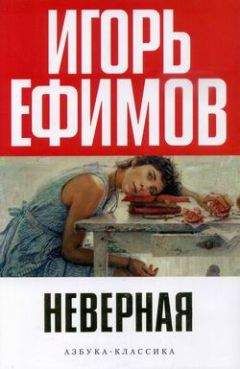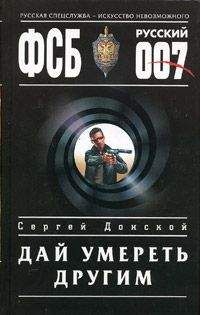Неверная - Али Айаан Хирси
Мама подарила Хавейе несколько dirha и заклинала ее слушаться старших и не пятнать честь родителей. В день отъезда сестры мы с мамой понесли ее чемодан в дом Фараха Гуре. Хавейя была взволнованная и радостная, я плакала. Больше всего мне было жалко себя, ведь теперь мне одной придется оканчивать школу и жить с мамой и бабушкой в тесной комнате. Отец уехал много лет назад, потом брат, а теперь и сестра. И бабушка все твердила о том, насколько лучше ей будет, если она сможет вернуться в Сомали к другим дочерям и сыну. Наша семья рассыпалась на глазах.
Когда Хавейя добралась до Могадишо, ей пришлось остановиться в доме Марьян Фарах, первой жены отца – нашей ближайшей родственницы в Сомали. Не пожить у нее было бы невежливо: это свидетельствовало бы о нашей ревности и злобе.
Мы никогда не виделись с Марьян Фарах, но знали о ней и ее дочерях, которых называли сестрами. Арро была намного старше меня, а Иджаабо – примерно возраста Хавейи. Марьян была маленькой гордой женщиной. После развода с отцом она больше не выходила замуж. В Могадишо она занимала важный пост в правительстве. Марьян принадлежала к маленькому субклану Марехан – к тому же, что и диктатор Сиад Барре.
В Сомали Хавейя постоянно находилась под давлением кланов. В Кении кланы не имели для нас особого значения, но в Сомали они были всем. Люди Осман Махамуд понимали, что Хавейя должна жить с мачехой, хотя Марьян была из другого клана: так было заведено. И все же они не спускали с нее глаз. Они презирали Марехан и не хотели, чтобы женщина из этого субклана говорила, что содержит отпрыска Осман Махамуд, поэтому давали Хавейе деньги на карманные расходы.
Как только Хавейя возвращалась в дом Марьян от родственников отца, сводные сестры набрасывались на нее и начинали умолять, упрашивать, требовать, чтобы она поделилась деньгами. Они брали ее вещи без разрешения, пользовались ее шампунем и мылом, высмеивали ее за то, что она не знала, как себя вести, и постоянно читала. Хавейя терпеть не могла Арро и Иджаабо.
Гораздо комфортней ей было в доме Ибадо Дхадей Маган, старшей сестры отца, которая сама научилась читать и писать, поднялась от простой медсестры до директора госпиталя Дигфир, где родилась я. Ибадо Дхадей было около пятидесяти, но она была очень современной женщиной. Она была замужем, но не имела детей. Ей пришлась по нраву храбрость Хавейи.
Ибадо объяснила Хавейе, что ей повезло, что она вообще ходила в школу, и что учиться надо, чтобы потом зарабатывать на жизнь. Она провела Хавейю по дому с верандами, крытыми черепицей, и роскошному саду, а затем сказала:
– Все это я заработала сама. Иди и получи образование, а потом устройся на работу.
Когда Хавейя потратила деньги, которые ей дала Ибадо, на брюки, блузки и юбки, семейство Марьян пришло в ярость. Еще одна проблема возникла с едой. В Найроби мы никогда не ели из одной тарелки, как принято в Сомали. Мама давно переняла европейский обычай использовать отдельные тарелки, хотя мы по-прежнему ели ложкой или руками. Но в доме Марьян, как и везде в Могадишо, все ели из одной тарелки, причем мужчины в одной части двора, а женщины и маленькие дети – в другой.
Хавейе не нравился местный обычай; она считала его негигиеничным и теряла аппетит. Дома она привыкла читать за столом. Без книги есть было скучно. Хавейя начала худеть, что Марьян воспринимала как личное оскорбление.
На деньги, которые давала ей Ибадо, Хавейя начала ходить в рестораны. Молодая женщина одна в ресторане – это было неслыханно. Она заказывала обед, а потом на глазах у всех медленно ела, читая роман. Официанты и клиенты-мужчины принимались дразнить ее, но она велела им оставить ее в покое. Такое поведение было совершенно ненормальным.
Родственники Марьян стали пытаться повлиять на Хавейю, бедную маленькую дочурку Хирси Магана, которая получила в Кении варварское воспитание. Они обсуждали ее, интересовались, что она ест, как одевается, почему читает романы, а не Коран. Хавейя написала мне, что уехала в Сомали, чтобы освободиться от матери, но попала в настоящую кабалу.
Мне было очень одиноко без Хавейи. Моя подруга Фардоса Абдиллахи Ахмед тоже уехала из Найроби – в деревню, где она должна была жить с младшими братьями и сестрами, пока ее не выдадут замуж. В школе меня по-настоящему интересовал только один предмет – ислам. Я ничуть не заботилась о том, как буду сдавать экзамены. Остальные девочки довольствовались поверхностным изучением нашей веры, но я пыталась понять ее основы. Мне хотелось, чтобы моя религиозная система была логичной. Словом, мне было нужно убедиться в истинности ислама. Я стала понемногу понимать, что, хотя многие замечательные люди и убеждены в его истинности, порой ему не хватает последовательности.
Я посещала занятия по исламу и вне школы. Нашим учителем был молодой человек, которого люди называли Бокол Сом, Тот-кто-постится-сто-дней. Бабушка говорила, что его живот касается спины, таким он был худым. Бокол Сом был фанатиком из фанатиков. В своем коротком саудовском одеянии, открывавшем костлявые ноги, он ходил по Истли, стучался в двери и отчитывал людей. Когда он сказал Фараху Гуре: «Твои дочери ходят непокрытыми! Вы все сгорите в аду!», тот вытолкал его взашей.
Но со временем у Бокола Сома появилось много последователей. В основном это были женщины, в том числе и моя мать. Они принимали от него записи с проповедями, а потом обменивались ими. Женщины превращали свои гостиные в классы для занятий по исламу, собирались там и жадно вслушивались в проповеди на кассетах или внимали Боколу Сому лично.
Постепенно Бокол Сом стал самым востребованным проповедником в округе, а его проповеди начали приносить результаты.
Женщины, раньше носившие разноцветные dirha с соблазнительными нижними юбками и итальянские босоножки, которые открывали пальцы ног с педикюром, теперь надевали burka – покрывала из самой плотной темно-коричневой, темно-синей или черной ткани, оставляя открытой только маленькую часть лица. Некоторые из них даже полностью закрывали лицо. Внезапно мой хиджаб стал казаться мне слишком прозрачным.
Мама превратилась в ярую приверженку Бокола Сома. Она предлагала мне послушать кассеты с его проповедями и его самого, когда он приходил в дома по соседству.
Сестра Азиза создавала вокруг себя атмосферу доверительности, позволяя нам делать собственные выводы. Но для Бокола Сома учить исламу означало громко выкрикивать строки Корана на смеси арабского и сомалийского, а после кричать о том, что запрещено и что разрешено. Он никогда толком не переводил текст и не объяснял его значение.
В день моего семнадцатилетия Бокол Сом говорил о том, как женщины должны вести себя с мужьями. Мы должны им полностью подчиняться, а если будем противиться – они могут избить нас. Мы не имеем права отказывать им в соитии ни в какое время, кроме месячных, и ни в каком месте, «даже в седле верблюда». Никакой взаимности или партнерства – это невозможно. Бокол Сом выкрикнул:
– Полная покорность: таков закон ислама.
Я возмутилась, встала по другую сторону плотного занавеса, отделявшего его от женщин, и дрожащим голосом спросила:
– Должны ли мужья также подчиняться нам?
В этом вопросе не было ничего дурного, но Бокол Сом повысил голос и произнес сухо и твердо:
– Конечно нет!
Я сжала кулаки, чтобы унять дрожь, и продолжила:
– Значит, мужчины и женщины не равны.
– Они равны, – ответил Бокол Сом.
– Нет, не равны, – сказала я. – Я должна полностью повиноваться мужу, но он не обязан подчиняться мне. В Коране сказано, что Аллах справедлив, но это несправедливо.
Голос Бокола Сома сорвался на крик:
– Ты не должна подвергать сомнению слова Аллаха! Его мысли сокрыты от нас. Твоими устами говорит дьявол, девчонка! Сядь немедленно!
Я села, но прошептала: «Глупый». Остальные женщины встревожились: они подумали, что я одержима. Но я всего лишь хотела выведать правду и понимала, что Бокол Сом заткнул меня, потому что не знал ее. Наверняка проблема не в Коране, ведь это слова Господа, а в глупых проповедниках, которых я имела несчастье встретить на своем пути.