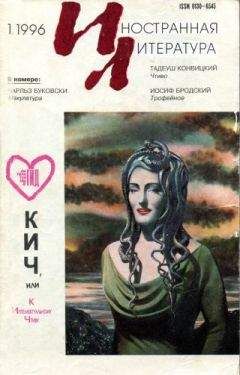Ты кем себя воображаешь? - Манро Элис
Интересно, он в самом деле священник или соврал? Фло говорила про людей, которые одеваются как священники, а на самом деле таковыми не являются. Про настоящих священников, одетых не как священники, она не говорила ничего. Или — еще страннее — про людей, которые не настоящие священники, но притворяются настоящими, но одеты в обычную одежду. В любом случае то, что Роза подошла так близко к определенной возможности, было чрезвычайно неприятно. Роза шла по центральному вокзалу, и полотняный мешочек с десятью долларами терся о ее кожу. Роза знала, что будет чувствовать это трение целый день напролет, как напоминание.
Она не могла не вспоминать наставления Фло — даже теперь. Поскольку Роза была на центральном вокзале, она вспомнила рассказ Фло про девушку по имени Мэвис, которая работала здесь, на вокзале, в сувенирном магазине, когда сама Фло трудилась тут же в кофейне. У Мэвис были бородавки на веках, которые выглядели как зарождающийся ячмень, но они не превращались в ячмень, а проходили сами. Может, Мэвис их удаляла — Фло ее не спрашивала. Без бородавок Мэвис была очень красивая. Она была похожа на одну известную киноактрису того времени. Актрису звали Фрэнсис Фармер.
Фрэнсис Фармер. Роза никогда про такую не слыхала.
Да, так ее звали. И однажды Мэвис пошла и купила себе большую шляпу с полями, закрывающими один глаз, и платье целиком из кружева. И поехала на выходные в Джорджиан-Бэй, в пансионат на берегу залива. Она записалась там под именем Флоренс Фармер. Чтобы все подумали, что она на самом деле та актриса, но назвалась Флоренс, потому что приехала отдыхать и не хотела, чтобы ее узнали. У нее был мундштук для сигарет — черный с перламутром. Ее могли арестовать, сказала Фло. За такую наглость.
Роза едва удержалась, чтобы не пройти мимо сувенирного магазина и не посмотреть — вдруг Мэвис до сих пор там работает и Роза сможет ее узнать. Розе казалось, что это достойный восхищения поступок — так преобразовать себя. Рискнуть; сделать так, чтобы тебе это сошло с рук; отправиться на нелепые приключения в своей собственной шкуре, но под совсем новым именем.
Деванищенка
Патрик Блэтчфорд был влюблен в Розу. Это стало у него навязчивой идеей, доходящей до фанатизма. Для Розы его чувство было источником непрестанного удивления. Патрик хотел на ней жениться. Он ждал ее после занятий, вдвигался в пространство и шел рядом, так что всем желающим с ней поговорить приходилось считаться с его присутствием. Он молчал, когда рядом были друзья или однокурсники Розы, но пытался встретиться с ней глазами, чтобы холодным удивленным взглядом выразить свое мнение об их разговоре. Розе это льстило и в то же время пугало ее. Девочка по имени Нэнси Фоллз, подруга Розы, неправильно произнесла при нем фамилию Меттерних. Потом Патрик сказал Розе: «Как ты можешь дружить с подобными людьми?»
Нэнси и Роза вместе пошли и сдали кровь в больнице Виктории. Каждой заплатили по пятнадцать долларов. Бо́льшую часть денег они потратили на вечерние туфли — сексапильные серебристые сандалии. Потом — поскольку от сдачи крови наверняка худеешь — девушки пошли и съели мороженого с горячей шоколадной подливой в кафе Бумерса. Почему Роза не смогла заступиться за Нэнси перед Патриком?
Патрику было двадцать четыре года, он учился в магистратуре и собирался стать преподавателем истории. Он был высокий, худой, светловолосый и красивый, несмотря на бледно-красное родимое пятно, которое каплями стекало по виску и щеке. Патрик извинился за это пятно и сказал, что с возрастом оно поблекнет. Когда ему будет сорок, оно исчезнет совсем. Его не родимое пятно портит, подумала Роза. (Что-то действительно портило его красоту или, во всяком случае, уменьшало ее; Розе все время приходилось напоминать себе, что Патрик красивый.) В нем была какая-то нервозность, дерганость, разлад. Когда он нервничал, его голос срывался, а в присутствии Розы он, кажется, нервничал все время. Он сбивал тарелки и чашки со столов, проливал напитки, опрокидывал вазочки с арахисом, рассыпая содержимое, словно комик. Он не был комиком; его устремления были весьма далеки от этого. Он приехал из Британской Колумбии. Его семья была богата.
Когда они с Розой собирались в кино, он приходил за ней заранее. Зная, что пришел раньше времени, он не стучался. Он садился на ступеньки перед дверью доктора Хеншоу. То было зимой, уже в темноте, но у двери висел небольшой каретный фонарь.
— Ой, Роза! Иди посмотри! — восклицала доктор Хеншоу тихим голосом, в котором звучал смех, и они вдвоем смотрели вниз из окна кабинета.
— Бедный юноша, — деликатно говорила доктор Хеншоу.
Ей было семьдесят с чем-то лет. В прошлом преподаватель английского языка, она была требовательна к мелочам и энергична. Она хромала, но до сих пор по-юношески очаровательно склоняла голову набок. Голову венчали уложенные короной седые косы.
Она звала Патрика бедным потому, что он был влюблен, и еще, может быть, потому, что он был самцом, брал напором и совершал оплошности. Даже отсюда, сверху, видно было, что он, сидящий на холоде, упрям и жалок, решителен и зависим.
— Сторожит дверь, — сказала доктор Хеншоу. — Ох, Роза!
Другой раз она беспокойно воскликнула:
— Мне кажется, он выбрал совсем неподходящую для себя девушку!
Розе эти слова не понравились. Ей не нравилось, что доктор Хеншоу смеется над Патриком. То, что Патрик сидит на ступеньках, ей тоже не нравилось. Он сам напрашивался, чтобы над ним смеялись. Он был самым уязвимым человеком из всех, кого Роза когда-либо знала, — и сам ставил себя в такое положение, поскольку совершенно не умел защищаться. Но одновременно с этим он все время сурово судил окружающих и был заносчив.
— Ты — ученый, Роза, — часто говорила доктор Хеншоу. — Тебе это будет интересно.
И читала вслух что-нибудь из газеты или, чаще, из «Канадского форума» или «Ежемесячного атлантического журнала». Доктор Хеншоу когда-то возглавляла городской отдел образования, она была одним из основателей Федерации сотрудничающих общин [6]. Она до сих пор заседала в разных комитетах, писала письма в газеты и рецензии на книги. Отец и мать доктора Хеншоу были врачами-миссионерами; она родилась в Китае. Дом у нее был маленький и совершенный. Натертые полы, яркие коврики, китайские чаши, вазы и пейзажи, черные резные ширмы. Многое из этого Роза тогда еще не умела оценить. Она не видела большой разницы между нефритовыми фигурками животных, стоящими на камине у доктора Хеншоу, и украшениями, выставленными в витрине ювелирной лавки в Хэнрэтти, хотя уже ощущала разницу между любой из этих фигурок и безделушками, что Фло покупала в магазине «Все за 5 и 10 центов».
Роза не могла понять, нравится ли ей жить у доктора Хеншоу. По временам, когда приходилось сидеть в столовой, расстелив полотняную салфетку на коленях, и есть из тонких белых тарелок, стоящих на красивых голубых сервировочных ковриках, Роза терялась. Надо сказать, что она все время не наедалась, и у нее завелась привычка покупать пончики и шоколадки и прятать у себя в комнате. В столовой на окне висела клетка, внутри которой прыгала канарейка на жердочке, а доктор Хеншоу направляла разговор. Она говорила о политике и о писателях. Она упоминала Фрэнка Скотта и Дороти Ливси. Она сказала, что Роза непременно должна прочитать их творения. Она все время приказывала Розе читать то или это. Роза мрачно пообещала себе, что и не подумает. Сейчас она читала Томаса Манна. Сейчас она читала Толстого.
До знакомства с доктором Хеншоу Роза никогда не слыхала выражения «рабочий класс». Она принесла его домой.
— Наша часть города, похоже, будет последней, где проведут канализацию, — заметила Фло.
— Разумеется, — невозмутимо ответила Роза. — Здесь живет рабочий класс.
— Рабочий класс? — переспросила Фло. — Ты попробуй заставь кого-нибудь из тутошних работать.
Жизнь у доктора Хеншоу в определенном смысле повлияла на Розу. Роза перестала воспринимать родной дом как нечто естественное, как само собой разумеющийся фон. Возвращение домой означало в буквальном смысле выход на резкий, пронзительный свет. Фло установила люминесцентные лампы в лавке и на кухне. Еще в углу кухни стоял торшер, который Фло выиграла в бинго; абажур торшера был навеки замотан полосками целлофана. По мнению Розы, что лучше всего получалось у дома доктора Хеншоу и у дома Фло, так это дискредитировать друг друга. В очаровательных комнатках доктора Хеншоу Розу не покидало ноющее воспоминание о родном доме, словно тяжелый ком в желудке. А дома сознание, что где-то есть порядок и соразмерность, обнажало постыдную прискорбную нищету людей, которые даже бедняками себя не считали. Бедность не означала сплошные лишения, как, кажется, думала доктор Хеншоу; бедность — это не просто когда у тебя чего-то мало. Бедность — это поставить у себя в доме уродливые люминесцентные лампы и хвалиться ими. Бедность — это постоянные разговоры о деньгах, ядовитые шпильки в адрес людей, купивших себе обновки, и намеки на то, как они собираются за них платить. Бедность — это гордость и зависть, вспыхивающие из-за какой-нибудь мелочи вроде пластиковых занавесок, имитирующих кружево: Фло купила такие на переднее окно. Бедность — это когда в ванной вешаешь одежду на гвоздь за дверью и слышишь каждый звук, доносящийся из туалета. Бедность — это стены, украшенные высказываниями, набожными, оптимистичными или слегка похабными.