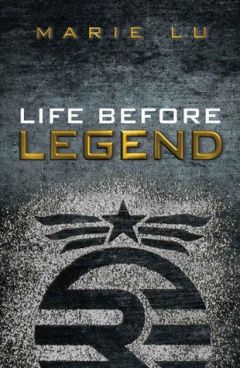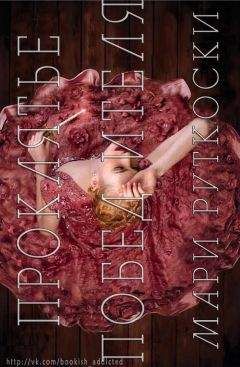Счастливая жизнь для осиротевших носочков - Варей Мари
– Прости, но мне нужно работать…
– А, забей, – отмахивается Виктуар. – Мы работаем вместе уже три месяца. Хочешь сказать, за три месяца у тебя ни разу не было времени, чтобы с нами пообедать? Статистически это более чем маловероятно. Реда говорит, что ты классная, но я так не думаю – особенно теперь, ведь ты можешь оказаться растлительницей малолетних… Что совсем не круто с точки зрения социальных норм. Даже я это знаю.
– Оставь Алису в покое, – вмешивается Реда, пожимая плечами. – Она застенчивая, вот и все.
Пропустив его слова мимо ушей, Виктуар продолжает:
– Почему бы тебе не сказать прямо? «Нет, я не хочу с вами обедать, потому что вы скучные и/или нелепые. Уж лучше я посмотрю видео с котиками, сидя в одиночестве перед компьютером, чем буду тратить время на таких неудачников, как вы».
Виктуар говорит с таким пылом, что я теряю дар речи, но через несколько секунд беру себя в руки и со всей искренностью отвечаю:
– Я не смотрю видео с котиками и не считаю вас неудачниками.
– Согласно моим познаниям в нейролингвистическом программировании, все сигналы, которые ты посылаешь, утверждают обратное.
Виктуар поворачивает ко мне лицо, обрамленное косичками. Она ждет правдоподобное объяснение, и я вижу только один выход из создавшейся ситуации. Сегодня я натворила достаточно дел, со вздохом думаю я и говорю:
– Я с удовольствием пообедаю с вами.
На лице Виктуар появляется слабая улыбка.
– Отлично, – отзывается она. – По вторникам у нас пицца. Уходим в полдень, не опаздывай. Если ты такая застенчивая, то можешь молчать. Реда все равно никому и слова вставить не дает.
– Это неправда… – возражает Реда.
– Это факт, – отрезает Виктуар. – По моим подсчетам, ты занимаешь собой восемьдесят три процента любого разговора. В среднем. А еще ты должен мне десятку. Я же обещала, что уговорю Алису пойти с нами.
Реда смотрит на меня, состроив виноватую и раскаивающуюся мину. Даже не знаю, хорошо это или плохо, что я стала объектом их спора. Решаю без лишних слов вернуться к делам.
Обед сокращает мой рабочий день. Реда и правда монополизирует беседу, разговаривая о своей излюбленной теме (трудовое законодательство не в счет), а именно – об Америке. Во время наших кофе-брейков он тоже постоянно о ней говорит. Его английский, к слову, просто ужасен.
Ближе к вечеру, когда Джереми проходит мимо моего стола, держа дочку за руку, Зои машет мне и радостно кричит на все помещение:
– Fuck, Алиса!
Джереми резко останавливается и смотрит на меня. Я делаю вид, что ничего не понимаю. Что лучше – объясниться, извиниться или прикинуться, что я ни при чем? Зои, увидев замешательство отца, любезно решает его просветить:
– Это слово означает «чао» по-американски, но его мало кто знает. Меня Алиса научила.
Джереми тяжело вздыхает и бросает на меня мрачный взгляд.
– Пойдем домой, милая, – говорит он. – Больше не используй это слово.
Виктуар с Реда рыдают от смеха, спрятавшись за экранами своих мониторов. А я думаю, что мои отношения с Джереми Миллером определенно не улучшились.
Дневник Алисы
Лондон, 8 декабря 2011 года
Привет, Брюс! Как делишки?
Наверняка ты будешь рад узнать, что вчера утром у меня начались месячные. С двухдневной задержкой. За сорок восемь часов я потратила эквивалент госбюджета на тесты на беременность (которые потом спрятала на дне мусорки, чтобы Оливер не увидел). Все они отрицательные, конечно.
– Что вы чувствуете по этому поводу? – спросила психотерапевт.
В ответ я чуть было не показала ей средний палец.
Мне больше нравится говорить о своем детстве, чем о беременности. Признаюсь: я устала, у меня больше нет сил. Я прочитала столько статей и книг о беременности, что могла бы работать гинекологом.
Кстати, я получила повышение и хорошую прибавку к зарплате. Мне бы радоваться, но нет. Я бы предпочла быть уволенной, но беременной. Я Оливеру так и сказала, на что он ответил:
– Подумай о том, что ты могла бы оказаться уволенной и не беременной!
Чертово позитивное мышление.
Давай поговорим о Скарлетт. Ты наверняка думаешь, что Скарлетт интереснее меня. Все думают, что Скарлетт интереснее меня.
Давай поговорим о событии, которое навсегда изменило жизнь моей сестры. В ноябре 1995 года судьба сделала крутой поворот, и Скарлетт впервые влюбилась.
Не знаю почему, но я словно чувствовала: что-то произойдет. Приближался День благодарения, Скарлетт скучала. Мне было одиннадцать лет, и моя младшая сестренка превратилась в мятежное чудовище. Она находилась в состоянии постоянной войны против всего и всех, кто мог так или иначе посягнуть на ее свободу. И против взрослых в первую очередь. Ей регулярно делали выговоры и назначали отработки после уроков.
Мы по-прежнему учились в одном классе, и хотя я обожала свою сестру, трудно было представить себе ученика невыносимее. Скарлетт постоянно опаздывала – абсурд, учитывая, что мы выходили из дома вместе и я всегда приходила вовремя. Но до звонка она гуляла по школе, ходила в столовую, приставала к старшеклассникам, которые были выше нее на три головы. Она грубила учителям, срывала уроки дерзкими выходками, засыпала на парте и была классным шутом. Особенно доставалось нашей учительнице французского. Мы прекрасно говорили на двух языках, и Скарлетт поправляла госпожу Жерве, лишая эту бедную женщину всякого авторитета. Стоило моей сестре с притворной прилежностью поднять руку, как у госпожи Жерве начинался нервный тик.
Примерно тогда же Скарлетт начала часто вспоминать отца. Ей было интересно, совершил ли он «великие дела», о которых писал в своем прощальном письме.
– Я тоже уеду из Квинстауна и буду вершить великие дела, – говорила она с детским высокомерием. – Нужно только придумать, какие.
Ей не терпелось повзрослеть и двигаться дальше – тем более что наши подруги этим и занимались. Кэрри проводила выходные у отца в Нью-Йорке и хотела устроить вечеринку в конце года, у Дакоты начались месячные, а Эшли утверждала, что целовалась со старшеклассником в душевых. Дома ничего не происходило, по крайней мере ничего нового и интересного, так, сплошная рутина: учеба, макароны с сыром, кассеты, которые мы по субботам брали напрокат в видеомагазине «Блокбастер», находившемся в торговом центре.
Однажды утром Скарлетт встала и серьезно объявила:
– Алиса, время на великие дела ограничено. Поэтому я придумала fucking good plan, как добиться успеха в жизни.
– И какой же?
– Я решила сэкономить время и вступить в подростковый возраст.
Скарлетт ничего не делала наполовину, поэтому ее подростковый возраст был взрывоопаснее, чем динамитная шашка. С того памятного дня она бродила по дому, как неприкаянная душа, и морщила носик, словно ее постоянно тошнило от неприятного запаха – запаха посредственности, которой была наполнена наша жизнь. Она расстраивалась по пустякам или рыдала во время просмотра новостей. Даже я больше не могла ее развеселить. По словам Скарлетт, все было тщетно, смехотворно, мелочно, наша жизнь не имела смысла. Она ни с кем не хотела общаться и театрально устраивала истерики, во время которых била посуду и кричала маме, что лучше умереть, чем закончить, как она, читай, влачить жалкое существование без амбиций и прочего идиотизма, насаждаемого рекламными лозунгами. Скарлетт говорила с такой искренностью, что никто не знал, что ответить. И чем больше мама игнорировала ее, тем хуже становилось.
Однажды в субботу, когда Скарлетт во время завтрака назвала нашу жизнь «убогой» (потому что у нас закончился сливочный сыр), мама, которая только что получила крупный чек за перевод серии эротических романов, решила отвести нас в ресторан, чтобы отпраздновать мои оценки (у меня были сплошные пятерки и пятерки с плюсом). Любовь к хорошей еде была у нее в крови. Слава о роскошных праздничных обедах, которые мама – несмотря на проблемы с деньгами – каждый год устраивала на День благодарения, ходила по всему Квинстауну. Мама критиковала американский фастфуд, поэтому ни разу не удостоила своим присутствием ни одну из точек быстрого питания в торговом центре. По ее мнению, только четыре заведения в Квинстауне могли гордо называться «ресторанами»: итальянский, пользующийся хорошей репутацией, портовый, где подавали морепродукты, стейк-хаус в центре города и закусочную «У Боба» на главной улице прямо у въезда в Квинстаун. Последнее было «типично американской забегаловкой» и попало в список только потому, что Боб был тайно влюблен в маму (о чем, конечно, знал весь город).