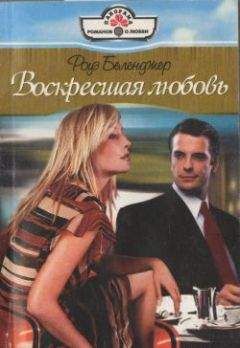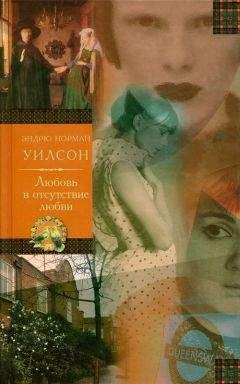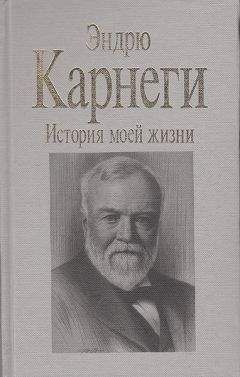Медведь - Кривак Эндрю
Она свежевала оленя медленно, с той заботой о живом существе, к которой ее приучили. Закончила, только когда сумерки совсем сгустились и над деревьями на востоке встала прибывающая луна. Решила подождать до утра, а уж там разделать и выпотрошить тушу, но все же без промедления вытащила потроха, вскрыла грудную полость, подперла палкой, натолкала внутрь снега. А потом выкопала оттуда, где отгребла снег, камень, плоский с одной стороны, очистила его от грязи и снова встала перед оленем на колени. Нащупала внутри самую толстую кость и стала бить по грудине, пока та не переломилась. Клином вставила туда камень, расширила отверстие так, чтобы просунуть внутрь обе руки и нож. Добравшись до полости, все еще почему-то теплой, она перерезала мышцы и артерии и вытащила сердце оленя, такое большое, что держать пришлось в обеих руках.
Правильно он тебя научил, сказала пума, голос у нее был хриплый, медленный.
Девочка обернулась и уставилась на большую кошку: ее не удивило, что та произносит слова, удивило, что пума знает: всему этому ее научил отец.
Ты какую часть хочешь, пока нож мой еще остер? — спросила девочка.
Я сыта, ответила кошка.
ВЕРНУВШИСЬ В ПЕЩЕРУ, ДЕВОЧКА ПОДВЕСЕЛИЛА костер, соорудила над углями каменную печурку, положила внутрь сердце оленя. Больше они с пумой не обменялись ни словом. Девочка ждала в тишине, пока мясо испечется, потом съела его — такого голода она еще не испытывала никогда, — вымыла в снегу лицо и руки, вернулась к огню и снова заснула у камня, на котором сушилась постель.
УТРОМ ПУМЫ УЖЕ НЕ БЫЛО. ДЕВОЧКА СЪЕЛА оставленную с вечера четвертинку сердца, запила талой водой, потом вышла наружу — рассмотреть тушу оленя при дневном свете. Она никуда не делась. Пища. Шкура. Сухожилия для тетивы и рыбной ловли. Кости для игл, наконечников стрел, рыболовного крючка поменьше, если удастся его выточить. Она найдет в лесу небольшой дубок, срежет, смастерит себе новый лук. Будет он хуже того, который сделал отец, но в дело сгодится. Она выгребла снег из грудной полости и стала разделывать оленя, отделяя мясо, вырезая сухожилия из спинной части и всех четырех ног. Половину мяса она обложила снегом и спрятала в большой трещине в стене пещеры. Остальное оставила, чтобы закоптить. Сухожилия вычистила и положила сушить у огня. Потом занялась шкурой.
Пристроив шкуру на большой гладкий наклонный камень, она отчистила ее от остатков мяса и жира. Закончив, пошла искать сучки и ветки для распялки — та вышла совсем примитивная, пришлось вставлять хворостины в трещины на стенах и опирать их о потолок пещеры; потом, достав из сумочки завязки, она растянула шкуру, прикрепила к распялке — пусть там и остается до полнолуния.
Когда она вышла из пещеры, оказалось, что у входа стоит пума и держит двух мертвых опоссумов. Девочка взяла их за хвосты и начала свежевать, одного за другим, вырезая изнутри скудные куски мяса, а шкурки потом очистила ножом, положила к огню сохнуть, вскрыла черепа и достала мозг — он понадобится, чтобы дубить кожу.
С этим она покончила к полудню, зажарила кусок оленины на обед. Пума опять исчезла, так что девочка присыпала горячие угли золой и пошла искать дерево, из которого выйдет хороший лук.
Вернулась она под сумерки и принесла лишь сухую ветку для костра. У входа в пещеру снова стояла пума. Перед ней, мордочками в снег, лежали два крупных бобра. Девочка подняла их, чтобы осмотреть, а пума прошелестела: с ними успеешь. Сядь. Нужно тебе кое-что сказать, а потом мне пора.
Девочка переломила ветку о колено, зашла в пещеру, положила часть покрупнее в костер.
Пума на сей раз заходить не стала, сновала взад-вперед у входа в пещеру, то и дело останавливаясь, чтобы взглянуть на склон горы: похоже, ее что-то тревожило или настораживало. Потом она остановилась в полумраке и сказала девочке: зима впереди еще долгая, и хотя как отсюда добраться домой, она знает, отправляться сейчас не время, если только она хочет вернуться к одиноко стоящей горе и похоронить там отца. Кошка обеспечила ее мясом на несколько дней и шкурами, в которых будет тепло охотиться, — главное, чтобы у девочки хватило умения выдубить кожу. Остальное все поблизости, в лесу: он ведь зимой не умирает, а только меняется.
Посмотри на медведя, сказала девочке пума. Спит и спит, но во сне бродит по лесу, как и когда бодрствует, по тем же тропам, которые когда-то хорошо знал, по тем тропам, по которым прошел с тобой, рассказывая тебе о том, о чем другие вроде тебя не знали, да и не хотели знать. Ты теперь с ним связана, связана так же прочно, как и с костями, которые несешь. Если ты не проснешься, пещера эта станет тебе могилой, и медведь унесет с собой в свои странствия память об осени, когда он на некоторое время стал спутником той, что несла с собой горе. Если же ты проснешься и завершишь путь домой, этот медведь и еще многие медведи, его потомки, сохранят историю возвращения последней к одиноко стоящей горе. Сохранят, чтобы леса ее помнили до тех самых пор, пока еще есть леса под солнцем.
Когда пума умолкла, девочка не подняла глаз. Она смотрела в огонь. Небо затянули тучи, дым от костра уже не поднимался вверх по прямой, а волнами растекался между кострищем и землей — значит, скоро опять начнется снегопад. Девочка подняла руку, сбросила лямки торбы с плеч, встала, отнесла торбу к задней стене, оставила там рядом со спящим медведем.
А потом вновь повернулась к устью пещеры и костру и проследила, как пума выскальзывает из круга света во тьму.
~~~
ВСЕ СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ВЬЮГА НЕ ВЫПУСКАЛА ее наружу — девочка сидела, съежившись, у кострища. Позавтракала слабеньким чаем из сассафраса и олениной, разметила на стене пещеры календарь, с того дня, когда начала у реки отсчет от солнцестояния, добавила еще пять дней: три она проспала, а два — бодрствовала и здесь была пума. Она мерила шагами каменный пол, вслушиваясь в медленное гулкое дыхание медведя, и обдумывала слова пумы о том, что они с медведем теперь связаны. Она не чувствовала связи ни с чем, кроме своего желания оказаться дома — за это, и только за это она станет цепляться, чтобы выжить. Освежевала бобров, выскоблила шкурки, положила сушиться, потом взяла шкурки опоссумов, промыла с внутренней стороны мозгом, отжала, распялила, подбросила в огонь свежего дерева, чтобы прокоптить: так при последней сушке они станут мягкими.
БЕЗ ХОРОШИХ СНЕГОСТУПОВ В ЛЕС БЫЛО НЕ выбраться, а ветки сосны и болиголова, из которых их делают, поблизости от пещеры не росли. Около полудня вьюга стихла ненадолго, девочка вышла наружу и по колено в снегу побрела к опушке. Влезла на первую же сосну, отломила от ствола четыре ветки, стоймя воткнула их в снег. Потом пробралась ниже по склону к зарослям болиголова, нарезала полную охапку прутьев, притащила все это по сугробам назад в пещеру и взялась за работу.
Зазубренным краем камня, расколовшегося в костре, она обрезала сосновые ветки на длину груди, потом ножом уплощила их с одной стороны и сделала желобок с другой. Сухожилием из ноги оленя привязала четыре веточки поменьше крест-накрест к середине больших веток — сюда будет опираться нога, потом согнула концы веток и связала вместе. Так в руках у нее оказались два снегоступа, формой напоминавших рыбу, размером в половину ее роста. Тогда она взяла ветки болиголова и вплела их внутрь, начиная с конца, пропустила под опорами для ног и вывела к носу — они прочно и аккуратно легли в сосновый каркас. Она положила снегоступы на пол, встала сверху и поняла: ее вес они выдержат.
ПЯТЬ ДНЕЙ НЕ СТИХАЛА ВЬЮГА, ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ девочка питалась олениной и корой. Вытащила из снежной укладки половину мяса, закоптила на распялке, которую сделала для шкур, — нарубила свежие кленовые ветки на щепки и сделала оленину холодного копчения: так когда-то делал отец. На это ушел один день и ночь; девочка гадала, не разбудит ли дым от просушки шкур и копчения мяса медведя, но зверь продолжал спать.