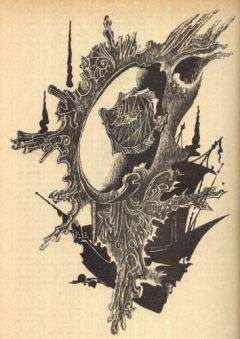Венедикт Ерофеев - Вальпургиева ночь, или Шаги Командора
Наталья Алексеевна, наш новый пациент вопреки всему крепчает час от часу. А я только что проходил: у дверей хозотдела линолеум у вас запущен – спасу нет. А новичок… ну, чтоб не забывался, куда попал, – пусть там повкалывает с полчаса. А я – понаблюдаю…
Гуревич. Ну, что ж… (С ведром и шваброй удаляется, стратегически покусывая губы)
Прохоров.
Все честь по чести. Я на то поставлен.
Ты, Алексевна, опекай его.
Он – с придурью. Но это ничего.
Акт четвертый
Снова третья палата, но слишком слабо заселена: одни еще невернулись с ужина, другие – с аминазиновых уколов. КомсоргПашка Еремин все под той же простыней, в ожиданиивсе того же трибунала. Старик Хохуля, после электрошока,-недвижим, и мало кого занимает, дышит он или уже нет. Витяспит, Михалыч тоже. Стасик онемел посреди палаты свыброшенной в эсэсовском приветствии рукой. Тишина. Говориттолько дедушка Вова с пунцовым кончиком носа.
Вова. Фу ты, а в деревне-то как сейчас славно! Утром, как просыпаешься… первым делом снимаешь с себя сапоги, солнышко заглядывает в твои глаза, а ты ему в глаза не заглядываешь… стыдно… и выходишь на крыльцо. А птички-пташки-соловушки так и заливаются: фир-ли-тю-тю-фирли, чик-чирик, ку-ку, кукареку, кудах-тах-тах. Рай поднебесный. И вот надеваешь телогрейку, берешь с собой документы и вот так, в чем мать родила, идешь в степь стрелять окуней… Идешь убогий, босой, с волосами. А без волос нельзя, с волосами думать легче… И когда идешь – целуешь все одуванчики, что тебе попадаются на пути. А одуванчики целуют тебя в расстегнутую гимнастерку, такую выцветшую, видавшую виды, прошедшую с тобой от Берлина до Техаса…
В палату тихо-тихо заходят, взявшись за руки, СережаКлейнмихель и Коля. Потирают свои уколы,обсаживают Вову, слушают.
И вот так идешь… ветры дуют поперек… Сверху – голубо, снизу – майские росы-изумруды… А впереди – что-то черненькое белеется… Думаешь: может, просто куст боярышника?… Да нет. Может быть, армянин?… Да нет: откуда в хвощах может появиться армянин? А ведь это, оказывается, мой внучок, Сергунчик, ему еще только четыре годика, волосики на спине только начали расти, – а он уже все различает: каждую травинку от каждой былинки, и каждую птичку изучает по внутренностям…
Коля. А я вот ничего не сумею отличить. А вот уже клен от липы…
Стасик (снова дует по палате из угла в угол). Да! Ничего на свете нету важнее! Спасение дерев! Придет оккупант – а где наша интимная защита? Интимная защита ученого партизана! А в чем она заключается? А вот в чем: ученый партизан посиживает и похаживает, покуривает и посвистывает. И наводит ужас на прекрасную Клару!…
Вова. А мой Николай Семенович…
Стасик (неудержимо). Господь создал свет, да, да, да! А твой Николай Семенович отделил свет от тьмы. А вот уж тьму никто не может отделить ни от чего другого. И потому нам не дают ничего подлинного и интимного! Перловой каши, например, с творогом, с изюмом, с гавайским ромом…
Коля. И с вермутом…
Стасик. Нет, без вермута. При чем здесь вермут? И до каких пор меня будут прерывать? Делать торными тропы нечестивых? Когда, наконец, закончится сползание к ядерной катастрофе? Почему Божество медлит с воздаянием? И вообще – когда эти поляки перестанут нам мозги пудрить?! Ведь жизнь и без того так коротка…
Вова. А ты посади, Стас, какой-нибудь цветочек, легче будет…
Стасик. Хо-хо! Нашел кому советовать! Да ты поди загляни в мою оранжерею. Жизнь коротка – а как посмотришь на мою оранжерею, так она будет у тебя еще короче, твоя жизнь! Твои былинки и лютики – ну их, они повсюду. А у меня вот что есть – сам вывел этот сорт и наблюдал за прозябанием. Называется он «Пузанчик-самовздутыш-дармоед», с вогнутыми листьями. И ведь как цветет! – что хоть стреляй в воздух из револьвера. Так цветет – что хоть стреляй из револьвера в первого проходящего!… А еще – а еще, если хотите, «Стервоза неизгладимая» – это потому что с начала цветения ходит во всем исподнем! «Лахудра пригожая, вдумчивая» – лучшие ее махровые сорта: «Мама, я больше не могу», «Сихотэ-Алинь» и «Футы, ну– ты». Все, что душе угодно! «Обормотик желтый!», «Нытик двухлетний!» Это уже для тех, кого выносят ногами вперед.
Вова. И все это ты имел в своем саду, браток?…
Стасик. Как, то есть, имел? До сих пор имею! Что, Вова, нужно тебе для твоих панталон?…
Вова. Нету у меня панталон…
Стасик. Ну, нет, так будут… И ты, конечно, захочешь оторочить верх панталон чем-нибудь багряным. Приходи в мой сад – и все твое. «Презумпция жеманная». «ОБХ-ЭС ненаглядный!» «Гольфштрим чечено-ингушский»! Дважды орденоносная «Игуменья незамысловатая», лучшие ее разновидности: «Капельмейстер Штуцман», «Ухо-горлонос», «Неувядаемая Розмари» и «Зацелуй меня до смерти». Пурпуровидные сорта зовутся по-всякому: «Любовь не умеет шутить», «Гром победы, раздавайся», "Крейсер «Варяг» и «Сиськи набок». А если…
Вова. А синенькие у тебя есть? Я, если выйду в поле по росе, по большим праздникам, – все смотрю: нет ли синеньких…
Стасик. Ну, как не быть синеньким! Чтоб у меня да не было синеньких?! Вот – «Носопырочки одухотворенные», «Носопырочки расквашенные», «Синекудрые слюнявчики», «Гутенморген»! «Занзибар мой бескрайний», – выбирай сорта: «Лосиноостровская», «Яуза», «Северянин», «Иней серебристый», «Хау-ду-ю-ду», «Уйди без слез навсегда»… (На словах «без слез и навсегда» снова деревенеет у окна палаты, с выкинутым вертикально кулаком «рот-фронт»)
Все глядят на Вовин носик. У Коли опять что-то течет, Вова бережно утирает. Почти никто не замечает, как старостаПрохоров то вторгается в помещение, взглядывает на часы– ему одному во всей палате дозволено носить часы, – то сноваисчезает из помещения. Музыка при этом – тревожнее всехтревожных.
Коля. Так ведь и осенью в деревне хорошо… Ведь правда, Вова?
Вова. Осенью немного хуже, с потолка капает… Сидишь на голом полу, а сверху кап-кап, кап-кап, а мышки так и бегают по полу: шур-мур, шур-мур, бывает, кого-нибудь из них пожалеешь, ухватишь и спрячешь под мышку, чтоб обсохли-обогрелись. А напротив – висят два портрета, я их обоих люблю, только вот не знаю, у кого из них глаза грустнее: Лермонтов-гусар и товарищ Пельше… Лермонтов – он ведь такой молодой, ничего не понимает, он мне говорит: «Иди, Вова, в город Череповец, там тебе дадут бесплатные ботинки». А я ему говорю: «А зачем мне ботинки? Череповец – он у-у-у как далеко… Получу я ботинки в Череповце – а куда я дальше пойду в ботинках? Нет, я уж лучше без ботинок…» А товарищ Пельше тихо мне говорит под капель: «Может, это мы виноваты в твоей печали, Вова?» – а я говорю: «Нет, никто не виновен в моей печали». А тут еще теленочек за перегородкой чертыхается и просить чего-то начинает, а я его век не кормил, и откуда он взялся, этот теленочек? У меня и коровки-то никогда не было. Надо бы спросить у внучка Сергунчика – так и его куда-то ветром унесло. И всех куда-то ветром уносит… Я уже с вечера поставил у крыльца миску с гречневой кашей – для ежиков. Сумерки опускаются. Вот уже и миска загремела – значит, пришли все-таки ежики, с обыском… Листья кружатся в воздухе, кружатся и садятся на скамью… Некоторые еще взовьются – и опять садятся на скамью. И цветочки на зиму – все попересажены… А ветер все гонит облака, все гонит – на север, на северо-восток, на север, на северо-восток. Не знаю, кто из них возвращается. А над головой все чаще: кап-кап-кап, и ветер все сильнее: деревья начинают скрипеть и пропадать, рушатся и гибнут, без суда и следствия. Вот уже и птички полетели, как головы с плеч…
Коля. Как хорошо… А у вас в деревне – в апреле тоже тридцать дней или дня три накинули?…
Вова. Да нет пока…
Коля. Ну, вот и зря… Надо было немножко накинуть… У нас все должно быть покрупнее, чем у них… Они играют на пятиструнной гитаре, а у нас своя, исконная, семиструнная… Байкал, телебашня, Каспийское озеро… А тут получается обидно: и у них в апреле тридцать дней и у нас тридцать. (Пускает слюну)
Вова утирает.
А равняться на Европу, как мне кажется, – это значит безнадежно отставать от нее… Конечно, мы не ищем для себя односторонних преимуществ, но и никогда не допустим, чтобы…
Прохоров (врывается в палату с озаренным лицом). Обход! Обход!
Но странно: вместо привычного: «Всем встать!» – староста отдаетприказ ни на что не похожий.