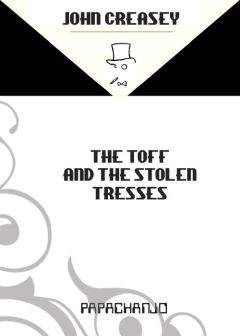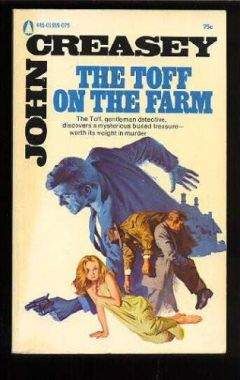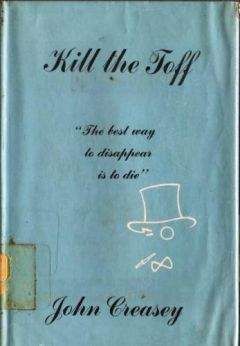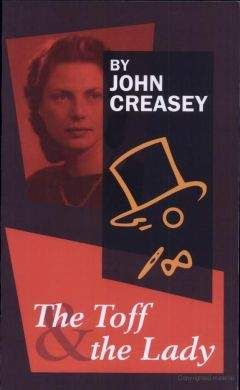Эстер Сегаль - Шизофренияяяяяяяя
И я пошла дальше – в свое отделение.
Мой коридор упирался прямо в него, и оно, застекленное, уютное, спокойное, было очень тихим. Тише, чем обычно. Никто не плакал. А ведь кто-то из детей уже должен был проснуться.
А когда я вошла туда, я увидела, что страшный парень уже там. Как он туда просочился – непостижимо, ведь я сама видела, что он ушел совсем в другом направлении. Но факт оставался фактом: он был в отделении, стоял рядом с одной и колыбелек и держал в одной руке ребенка.
А другой рукой – вот только сейчас я заметила, что он делал этой свободной рукой – он всадил новорожденному длинный нож прямо в родничок и проворачивал этот нож внутри, незнамо зачем превращая в месиво нежнейшую субстанцию уже мертвого мозга.
Я замерла от ужаса, не зная даже, чьи глаза меня больше испугали: остекленевшие бусинки едва проснувшегося и тут же умерщвленного младенца или живые, но тоже совершенно мертвые глаза его палача.
Тот смотрел прямо на меня, предоставив рукам делать свою жуткую работу вслепую, и на лице его было выражение какого-то не садистского, а детского удовольствия и любопытства. Как будто любознательному ребенку наконец-то представилась возможность сделать долгожданное открытие в области природоведения, а затем и продемонстрировать его взрослому. И он горд собой, и одновременно жаждет новых подвигов. Вот таким было лицо убийцы.
И тут мне вдруг открылась истинная причина странной тишины довольно звучного обычно отделения. Я поняла, что только что убитый ребенок не первый. Что страшный парень осуществляет свою месть методически и безжалостно.
Но я боялась смотреть по сторонам и подсчитывать потери. Мне казалось, что, если я замру и совершенно не буду шевелиться, это каким-то гипнотическим образом подействует и на мир вокруг. И он тоже замрет, и, стало быть, убийца, как часть застывшего мира, не сможет двигаться и не причинит вред остальным детям.
И я стояла и смотрела. Только на его лицо, не на руки. И надеялась, что нож больше не гуляет в ямке родничка. Но проверить боялась. И не смела отвести взгляд от страшных глаз.
А дети не плакали. Никто. Хотя я точно знала, чувствовала, что часть из них живы. Но и они, словно понимая, что творится вокруг, затаились и боялись пискнуть.
А ведь убийцу надо было остановить. Но я не знала как. И только заставляла себя не шевелиться, стать камнем. А потом я не выдержала. И глянула на голову убитого младенца. И увидела, как тут же и парень зашевелился. И стал вытаскивать свой нож из раны. И вместе с ножом наружу потек разжиженный лезвием мозг.
И тут я проснулась в ужасе.
И закричала.
И была жутко напугана и жутко зла на нерадивую природу, которая заставляет нас рождаться с не до конца оформившимся черепом.
И еще я подумала, что эта беспомощность, которая сопутствует нам с рождения, это ощущение незатянувшегося родничка, неспособности выразить свои желания и невозможности самостоятельно себя защитить, остается в нас навеки.
И самые страшные ошибки и самые большие подлости мы совершаем потому, что боимся ножа, занесенного над нами чьей-то более сильной, непостижимой, а потому и совершенно безжалостной рукой.
И, кроме того, я, естественно, схватилась за живот, потому что испугалась за своего еще не рожденного ребенка. Он ведь тоже будет совсем беззащитным, когда родится. Если вообще родится.
А вдруг он будет похож на мертвого ребенка из моего сна?
А вдруг я точно так же, как и во сне, не смогу прийти ему на помощь, если она понадобится?
А вдруг меня вообще не будет рядом, потому что я буду опять больна? Так больна, что и не вспомню, что у меня есть ребенок и что он во мне нуждается?
О, пожалуйста, не забирайте моего ребенка. Не отнимайте мой разум. Оставьте мне и то, и другое.
Глава 20. Еще один отец
Сегодня с лестничной площадки донеслось знакомое постукивание. Этакая робкая чечетка, заискивающая перед величием непознанного мира.
Я узнала ее бесхитростный ритм – это мой сосед, слепой от рождения, пытается преодолеть шестнадцать ступенек, отделяющих его жилище от двери подъезда.
Признаюсь, я люблю музыку его трости. И движения его тела, плывущего в вязкой темноте, тоже люблю. И я неоднократно совершала кое-что не совсем приличное: заслышав нерасторжимый дуэт трости и шагов, приоткрывала собственную входную дверь и подглядывала за перемещением знакомой фигуры, на редкость складной, учитывая суть соседского недуга.
И еще кое-что: уже если признаваться, то признаваться во всем сразу. Иногда, на подступах к лестничным пролетам, я вспоминала о том, что один из нас, жильцов этого дома, слеп. И тогда это воспоминания подталкивало меня к новому раунду моей вечной игры в посторонних людей. И я закрывала глаза и начинала вскарабкиваться на лестницу в темноте под строгой стражей суровой плотности и правого, и левого века.
И мне верилось тогда, что и я слепая. И тут же становилось и любопытно, и страшно. И я, конечно же, поскальзывалась. И однажды даже довольно сильно вывихнула лодыжку.
Надеюсь, что только этой неприятностью я и отделалась со своей дерзкой игрой. И что мой сосед не видел моих экзерсисов.
Ой, ну, конечно же, не видел. Не мог видеть – он же слепой.
Но, может быть, видел кто-то другой – и рассказал?
Да нет, тоже чушь. Во-первых, никто не знает и не мог знать, кем именно я воображала себя, закрыв глаза и взбираясь по лестнице. А во-вторых, даже если бы и узнали, поняли, постигли – все равно не рассказали бы слепцу. Ведь в нашем обществе царит мнение, что с убогими надо общаться деликатно. И не наступать на их мозоли. И на их мертвые глаза тем более.
А вот сейчас я снова слышу дробь белой трости по камню ступенек и по камню стены. И еще шлепки – наверное, сосед поменял обувь, раз она сегодня звучит так нежно и робко.
И я, хотя давно уже, вроде бы, раскаялась в подглядывании, не могу удержаться и по-кошачьи – стремительно, но бесшумно – бросаюсь к двери.
Сначала – заглянуть в глазок, проверить позиции. Затем медленно, не позволяя скрипу нарушить ритмичный танец трости, приоткрыть дверь.
И вот я уже вижу, как сосед проплывает всего в нескольких шагах от меня. Я вижу, что он не использует вторую руку – в ней какие-то пакеты, округлостью форм выдающие подробности соседского маршрута (он явно посетил бакалею и булочную). А жаль. Если бы эта рука была свободной, он мог бы повесить трость на запястье своей правой (в трости есть специальная петелька, которая сейчас свободно болтается вокруг тонкой бледной кисти) и второй, свободной рукой по-хозяйски касаться пупырышков краски на нашей стене.
Я однажды видела, как он это делает.
И, конечно же, потом повторила этот жест.
И знаете, эти пупырышки – очень красноречивы, если дотрагиваться до них осторожно, подушечками пальцев, и при этом не смотреть на них глазами.
Они совсем разные: и по размеру, и по форме. Их остренькие кончики, образованные временем и движением воздуха в процессе застывания краски, направлены в разные стороны. И все пупырышки в своей кучности как бы беседуют друг с другом, оказывают предпочтения в общении, а то и отворачиваются друг от друга с безмолвным «фе».
И когда я щупала их, мне подумалось, что мы зря сочувствуем слепым. Они вовсе не так уж обездолены, как нам кажется. У них есть много такого, чего недостает нам. И кто знает, променял бы слепец свои уникальные ощущения на свет и цвет, предложи ему кто такой выбор?
Я почти уверена, что не променял бы.
Впрочем, как и я не променяла бы остроту зрения на самый совершенный слух и на самый утонченный нюх.
А вот интересно, о чем мой сосед сейчас думает. Наверное, о свежей булке, которую он отведает на завтрак.
А может, о погоде.
О солнце, которое с ним не дружит (это видно по отсутствию загара) в ответ на его собственное пренебрежение к светилу.
А может, о том, что кто-то явно подглядывает за ним сейчас. И этот кто-то – я.
И вот когда я думала обо всем этом, провожая соседа и глазом, и слухом, мне вдруг показалось, что в моем животе шевельнулся ребенок.
Я знаю, что этого на самом деле не было и не могло быть, потому что еще слишком рано – на таком сроке движения наших деток еще невозможно ощутить ни изнутри, ни снаружи.
И все-таки мне показалось.
И тогда я подумала, что мне это показалось не просто так. И что мой ребенок послал мне импульс – важное сообщение в правильный момент.
И тут меня осенило! Да и как я раньше-то не догадалась?
Этот слепец, за которым я уже давно наблюдаю.
Этот стройный и строгий силуэт, скользящий во тьме.
Этот немой призыв отодвинуться, не мешать движению.
Этот стоп-сигнал, понятный каждому и влияющий на каждого. Заставляющий любого, будь то святой или распоследний мерзавец, посторониться и замереть хотя бы на пару мгновений.
Этот хозяин трости, приручивший ритм, как преданного пса.
Этот владелец и звонких, и еле шепчущих ботинок, сквозь тонкие подошвы которых его ступни знакомятся с опасностями дорог.