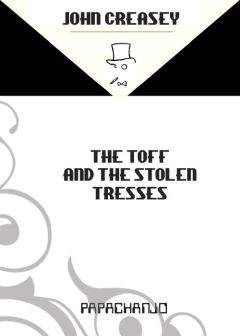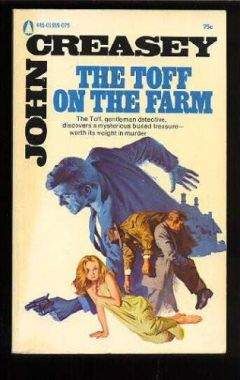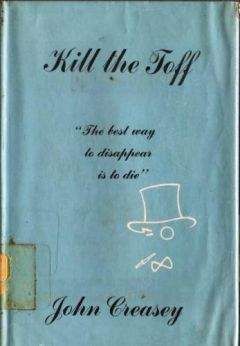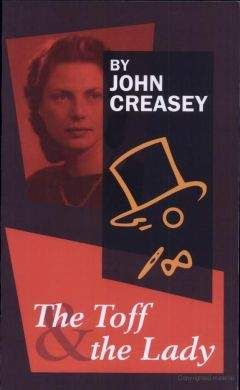Эстер Сегаль - Шизофренияяяяяяяя
Я пойду замуж только за того мужчину, который узнает меня без необходимости воспользоваться словами. И пусть сам тоже не говорит. Ну, кроме обязательных фраз приветствия и всего того, что навязывает придворный этикет.
По мне, так и без этого можно было бы обойтись. Но, вероятно, мои знакомства будут происходить под контролем отца и придворных. А они, увы, не простят благородным кавалерам неположенной им немоты.
Так что пусть поздоровается и расшаркается. А потом пусть молчит и просто смотрит мне в глаза. Я обо всем угадаю сама.
Угадаю ли? Угадаю.
А если его глаза мне ничего не скажут, не пойду за мертвоглазого.
А насильно не выдадут – побоятся.
Они вообще боятся моего молчания и не посмеют предпринять ни шага в вопросе моего замужества, не услышав озвученного «да». Или хотя бы не увидев кивка головы.
А ведь на самом деле я оказываюсь довольно-таки болтлива. Вон, сколько насочиняла о незначимости слов. Сколько их потратила.
Но это все про себя, не вслух, не наружу и не напоказ. Это мои мысли. Кому надо, тот сумеет их прочитать, несмотря на то, что они никогда не будут произнесены. А писать я не умею. Ни на одном из известных мне языков.
Надо бы научиться. Письменное слово весит больше. Ведь на него потрачены чернила. И оно умеет на расстоянии передавать то, что в близости молчанья понятно с помощью глаз.
Это очень плохо, что письму не обучают принцесс. Если стану королевой, обязательно это исправлю.
Глава 16. Недовольна!
Перечитала последнюю часть дневника – недовольна.
Завтра утром встреча с врачом, а я такое пишу.
Вот до чего довели меня «Роковые подвязки», невыносимые с первой страницы.
А если кто прочитает мой дневник раньше времени?
А если сам доктор?
Ему не понравится, что я заговорила от имени дочери короля Лира.
Да к тому же у меня там исторические неточности. Действие этой трагедии Шекспира происходит в Британии XI века, и тогда, как мне представляется, не принято было украшать замки живописными произведениями. Да, кажется, и взаимоотношения великих мира сего в то время были проще, без расшаркивания.
И вообще: рано-рано.
Еще только половина таблетки.
Больше никаких дневников – доделать запланированную главу «Подвязок» и спать.
Глава 17. Дрожь
Доктор встретил меня радушно: «Батюшки святы! Кто к нам пришел!»
Меня била дрожь.
– А что это глаза у нас невеселые?
– Напротив, очень даже веселые. У меня все хорошо, я на работу устроилась.
Меня била дрожь.
– Да ну? Так быстро? Куда, если не секрет?
– По специальности: корректором в издательство.
– Отлично, отлично!
Меня била дрожь.
– Вы не сказали им о своем недуге?
– А надо было?
– Нет.
– Ну, я и не сказала.
Меня била дрожь.
– Расскажите мне о своей работе. И о доме тоже.
Больше всего не люблю эти рассказы. Доктор слушает внимательно, улыбается масляно, как кот, разлегшийся в кресле, несмотря на строгий хозяйский запрет не шерстить на дорогой мебели.
Он улыбается, а сам цепко вслушивается в каждое слово и хочет поймать когтем недобросовестно плывущие рыбки слов.
Он ждет прокола. Он ищет подвоха.
Поэтому на протяжении всего моего рассказа меня била дрожь.
– А лекарство вы купили?
Вот тут важно не ошибиться. Если скажу, что не купила, может попросить предъявить рецепт. Если скажу, что купила, нет проблем отговориться тем, что пузырек стоит дома на кухонной полке.
– Купила.
Меня била дрожь.
– А где старое лекарство?
– Вот оно.
С этими словами я вытащила из сумочки пузырек и поставила на стол, лоснящийся оргстеклом, заляпанным россыпью отпечатков жирных докторских пальцев.
Пересчитает таблетки или нет?
Так и знала: пытается посчитать глазами, сквозь коричневую полупрозрачную бутылочную плоть.
Но я хитрее него. Я высыпала лишние таблетки, оставшиеся после снижения дозы, и завернула в бумажку. Так что на этом фокусе он меня не поймает.
– Ну и славно! – подытожил доктор. – Новый рецептик пока не выпишу, в следующий раз.
– В следующий раз, – отозвалась я слабым эхом.
Слабым, потому что меня била дрожь.
Мы попрощались, а меня все еще била дрожь, даже за дверью его кабинета.
Меня била дрожь, потому что я очень боялась, что он догадается, что на самом деле я птица.
Дозу до четверти все равно буду снижать.
Глава 18. Из дневника птицы Феникс
В моем гнезде полный порядок. Впрочем, это и неудивительно: я сама бываю здесь лишь налетами, а наследников у меня нет и быть не может.
Последнее обстоятельство меня сначала печалило, а потом, в результате философских размышлений и элементарной привычки, боль поутихла, и я смирилась с навязанной мне бездетностью.
Да и то: в продолжении рода я не нуждаюсь, ибо сама бессмертна, а стало быть, лишена естественного инстинкта увековечить себя в потомках. А если бы они у меня все-таки были, это могло бы создать определенный дискомфорт – представьте, миллионы детей, внуков, правнуков и так далее на тысячу поколений. А если бы им всем генетически передалась вечная жизнь их прародительницы? Как бы я тогда могла запомнить их имена и проявить должную заботу о великовозрастных птенчиках?
В общем, мое одиночество – благо, хотя и не я выбрала этот путь, а, как было сказано выше, мне его навязали.
В человеческих книгах моя история изложена витиевато и противоречиво.
Вы спросите, как, будучи птицей, я могу это знать?
Ну, во-первых, я умею читать. А во-вторых, я люблю подслушивать, и не раз, сидя на ветке дерева вблизи людского жилья, общественного здания, а то и просто у костра, я узнавала от присутствующих там бескрылых много интересного, в том числе и о себе.
Наверное, слово «бескрылых» из моего клюва прозвучало немного цинично, ведь, как вы уже могли убедиться, я прекрасно знакома и с понятием «человек». Но поверьте, я никого не хотела обидеть. Я произнесла это не из пренебрежения, а, скорее, из сострадания, ведь я прекрасно помню, что и люди когда-то летали.
Это, правда, было давно. Хотя лично для меня с тех пор прошел весьма незначительный отрезок времени, из чего мы учим, что все относительно, как сказал Эйнштейн и как мне известно из собственного опыта.
В общем, утверждаю и готова присягнуть в суде любого государства любым принятым там способом, что люди некогда летали, словно птицы. И даже выше и быстрее.
Но скажи я им об этом, пусть и под присягой, – все равно не поверят. И не потому, что убеждены в невозможности собственного полета без вспомогательных технических средств, а потому что на самом деле сами смутно припоминают что-то такое, хранят осколки былых поднебесных впечатлений где-то в подсознании и ни за что не хотят примириться с глупой и горестной утратой.
Потеряли они крылья очень просто. Один из них разбился, а когда другие нашли его полумертвого на камнях, он успел сообщить им о странных симптомах, которые возникли у него в высоте. Он говорил об иголках холода, которые кололи его тело. О том, как крылья свело судорогой. О том, как встречный поток воздуха вместо того, чтобы обтекать его по сторонам, слился в незримую твердь и враждебно подставил себя удару разогнавшегося летуна. О том…
Он говорил еще долго и все более невнятно. А те слушали. И впитывали.
Потом с одним из слушателей случилось то же самое. Потом с третьим, с седьмым.
По стану людей пронеслась эпидемия: все больше и больше тех, кто все же осмеливался взлететь, падали и разбивались насмерть.
И никто не мог понять причины внезапного заболевания. Мне же она была очевидна, ведь я летала рядом с ними и все видела.
Я прекрасно понимала, что они вовсе не больны, и что взлетают они, как обычно, легко и правильно. Но потом… потом что-то происходит. Они начинают бояться. Каждый из них думает: «А вдруг со мной случится то же, что с другими?» Они гонят сомнение, но то не сдается, а, наоборот, крепнет с каждой минутой и вгрызается в мозг, порождая новую грибную поросль тревожных мыслишек: «Может, все же стоит на всякий случай держаться пониже? Может, по дальним делам я слетаю не сейчас, а в следующий раз, когда погода будет поприятнее?» Ну, и так далее.
А потом вдруг каждый из них ощущал легкое покалывание. А затем холод. И, наконец, судорогу, которая сковывала их смертельными тисками и роняла на землю как бабочек, внезапно подвергшихся обратному окукливанию.
Да, у них была самая настоящая эпидемия: но не вируса, а страха. Их погубили паника и недоверие собственным силам. Они могли бы летать и дальше, но чем больше жертв самовнушения валились с неба на землю, тем меньше смельчаков отваживались пойти наперекор массовому явлению и рискнуть предаться вертикали.
Потом их совсем не осталось. А дети тех, кто еще помнил запах неба, уже не знали о возможности полета. И крылья – маленькие человеческие крылья, тонкие и хрупкие, как из слюды, но гораздо более мощные, чем у нас, птиц, – они попросту перестали замечать.