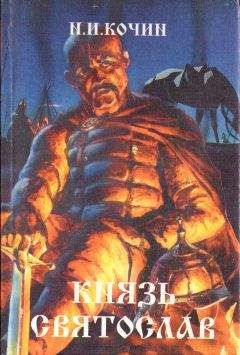В. Орлов - Он смеялся последним
И все эти произведения, вдруг осознал Кондрат, родились как-то параллельно и сразу — всего в какую-то пятилетку: на стыке 20-х и 30-х. И во всех перечисленных произведениях в разных характерных вариациях и проявлениях действует новый в советской литературе персонаж: устрашающий хам, малообразованный краснобай, жлоб, нахал, любитель жизненных услад. Сатирики независимо друг от друга буквально били в набат, предупреждали: рождается новый тип — совчин!.. И все умолкли: исчезли, затаились, изверились, струсили.
Тип этот в последующие, менее жестокие годы назовут точно: «homo 80Уегісш».
Николай Эрдман на поселении анонимно участвовал в создании сценария кинокомедии «Волга-Волга». Освободившись, писал сценарии для хороших фильмов, в том числе мультиков, был автором инсценировок, смешных интермедий. Сатирических же произведений больше не создал — перо притупилось, а может, объекты не рассмотрел.
Андрей Мрый доходил в Карельском лагере. В 43-м его отпустили, по сути, умирать. Он и умер на 50-м году жизни в товарняке по дороге домой. По глухим свидетельствам и предположениям, его труп отсидевшие сроки уголовники просто сбросили на ходу.
После той «пятилетки сатирического взрыва» во все последующие, даже относительно свободные годы, вплоть до нынешних времен, ни в кино, ни в театре, ни в литературе не появилось ни одного сатирического произведения.
Ни одного!
И только его, Крапивы, пьеса «Хто смяецца апошнім», выплеснутая в 37-м, в год зловещей подозрительности и злобного отношения к людям, пьеса — единственная сатира на 1/6 земного шара! — уже два года легально игралась в государственном театре. Но это — все же в провинции, а теперь она выставлялась в столицу 1/6 земного шара, «пред бдительны очи». А очи те — не только бдительны. Но его вот: укрывают, выслав из Минска. Несуразица какая-то.
Он знал о писательских судьбах почти все — или ему так казалось. Но ведь не знал, что если жене арестованного «нацдэма» присуждают восемь лет ссылки, то муж ее уже расстрелян.
Один в поле воин. Не в поле — в заснеженном пространстве торчит из окопа. И без белого маскхалата. В серой приметной шинельке. Один.
Осознал это только здесь и сейчас. И ужаснулся.
Здание гмины — городской управы при поляках, а ныне Вилейского обкома партии, — оцеплено военными. У входа выстроены коридором часовые — к винтовкам примкнуты штыки. По два часовых замерли у каждой машины с номерами Пинской, Барановичской, Белостокской, Брестской областей, у двух ЗИСов-101 и нескольких «эмок» с номерами города Минска. Горожане Вилейки, обходя оцепление, пугливо перебирались на противоположный тротуар и почему-то опускали празднично украшенные лентами веточки вербы, стараясь их скрыть.
Беспрецедентные меры охраны предприняты с целью защиты совещания особой секретности. Сюда, в Вилейку, вызваны секретари обкомов партии присоединенных к БССР в сентябре минувшего года западных областей.
Собравшимся не разрешено ничего записывать, а лишь запомнить дату и направление своих действий. Если бы циркуляр, оглашаемый Пономаренко, разослали по спецпочте или даже доверили спецкурьерам, то информация каким-то образом — через секретарш-машинисток, жен адресатов — все же просочилась бы. А этого ни в коем случае система допустить не смела.
Вызванные — каждый! — уже дали расписку о неразглашении, сидели плотно вдоль стола, возглавляемого первым секретарем ЦК. На него были развернуты их головы.
Пономаренко чеканил слова:
— «Восьмое апреля тысяча девятьсот сорокового года. Секретарям обкомов партии Пинска. Вилейки. Барановичей. Белостока. Бреста. — Перечисляя, он на каждого устремлял взгляд. — 13 апреля органы НКВД будут производить выселение семей репрессированных польских помещиков, офицеров, полицейских и других. ЦК КП(б)Б обязывает вас определить все необходимые мероприятия по оказанию помощи органам НКВД в проведении операции. Секретарь ЦК.» И моя подпись.
Сидевший за общим столом, но ближе всех к секретарю ЦК, Цанава развернулся к собравшимся.
— Кому что нэ ясно — говорите сейчас.
Долгое молчание прервал местный секретарь:
— Тюрьма у нас, в Вилейке, на 210 заключенных, и частично уже заполнена. А после мероприятия, которое обсуждаем.
— Нэ обсуждаем, а выполняем! — рыкнул Цанава.
— Да, конечно. указание партии.
— Нэ указание, а — приказ!
— Я понимаю. Но, по нашему предварительному учету, арестовать придется девятьсот десять человек.
— В Минск не везите — там своих хватает! — предупредил Пономаренко.
— Чтоб найти мэсто для потенциальных врагов советской власти, у вас есть целых пять днэй, пожалуйста! Все?
Представители остальных областей делиться своими проблемами не решились — уж как-нибудь.
Чтоб разрядить напряжение, Пономаренко обратился к местному секретарю:
— Хозяин, в Вилейке найдется чем попотчевать гостей?
В дверь гостиничного номера осторожно постучали. Кондрат встрепенулся: оказывается, пока пребывал в дреме, глаза наполнились слезами; быстро утер, ткнувшись лицом в подушку, отозвался:
— Да-да, входите.
В двери возник неприметный человек в штатском, попросил:
— Собирайтесь, товарищ Атрахович.
Кондрат знал, куда собираться, но со сна как-то невольно вырвалось:
— За что?
Гонец, словно не услышав вопроса, сообщил невозмутимо:
— Через полчаса выступаете в кинотеатре перед сеансом.
Цанава вертел в руках опорожненную в обед бутылку, читал:
— «Кавакьели» — Умберто Кавакьели — Ламбрускодель Эмилия».
— Наверняка от бывшего хозяина ресторана остатки, — предположил Пономаренко. — Что ж, приятное красное шампанское.
— Я люблю наш домашний красный аладастури — покойный мой папа делал. Навэрно, в селении еще несколько квеври закопанный остались. — При разговоре о родине у Цанавы усиливался акцент.
— А я как-то больше сладенькое винцо обожаю.
— Что вы, Кондратэвич! Маринованный форель и белый холодный цоликаури — ваймэ! А еще в селении Манави делают — только там! — зеленый вино! Поехали в отпуск ко мне в Мигрелию, хо?
— Поехали в Минск, Лаврентий Фомич, там дела ждут.
— Подождут. Слушай. Пошли в кино.
— Куда?!
— В кино. Я приглашаю. На «Волга-Волга».
— Да я видел.
— Наш вождь много раз смотрит это кино. Купим билеты. Я кашне замотаю, чтобы ромбы на кителе видно не было. «Волга-Волга», э! Отдохнем, развеемся. А то все только: заседания, совещания, пленумы.
В фойе кинотеатра на стенде с киноартистами не было фотографий, а только подписи к ним: Иго Сым, Витольд Конти, Эугениуш Бодо, Ян Кепура. Все содрали поклонницы! Оставалась одна: кривляки-комика Адольфа Дымши. Не было и портретов артисток, тоже одни подписи: Ледя Халама, Пола Негри, Марта Эггерт, Ханна Скаржанка. Пытаясь заиметь фото Ядвиги Смосарской, поклоннику не удалось отклеить его целиком — на стенде осталась самая соблазнительная часть: чуть прикрытые купальником скрещенные бедра кинозвезды.
Люди пытались хоть как-то ухватить разлетавшиеся неотвратимо осколки прежнего, привычного существования. Наивные.
Кондрата предупредили: чтобы не сбивать очередность киносеансов, отведено ему на выступление минут 10—12 — вместо киножурнала. На прекрасном белорусском языке его представила красавица в андараке, горсетке и намитке. Он прочитал байку «Пра нашых шкоднікаў, папоў ды ўгоднікаў» — и сразу же понял, что неуместно: сегодня церковный праздник, Вербница. Но ему простили, зал бурно аплодировал; Кондрат понял, почему: люди рады были свободно услышать свой язык, свою мову. В Вилейке до сентября 39-го оставалась всего одна белорусская школка.
Закончил он байкой про алкоголика «Хвядос — чырвоны нос» — беспроигрышный вариант!
Ему еще аплодировали, а свет в зале медленно гаснул. Кондрат направился к выходу, рассчитывая что-то написать в гостинице.
Вдруг из последних рядов его дернули за рукав. Обомлел, узнав в полутьме лица Цанавы и Пономаренко; растерялся, забыл поздороваться. Нарком НКВД приказал:
— Сядь, Крапива. Посмотри кино, которое любит товарищ Сталин.
В музыкальном прологе фильма вокальный квартет спел про артистов, титры перечислили создателей — но и тут не было фамилии сценариста. Кондрат знал: это репрессированный Эрдман. Понятно. Но вспомнил, что и историко-революционные фильмы «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», что назойливо показывали на всех официальных мероприятиях, тоже шли без фамилии автора.
Смотрел Кондрат невнимательно: видел картину, да и думалось о другом. Сатирики, поэты-«нацдэмы» — оно понятно. А нынче что: пошел целевой «хапун» киносценаристов?..
Но вот в финале посрамлен бюрократ Бывалов, нашли Дуню-Орлову, сочинившую песню о Волге, «красавице народной, как море, полноводной». На экране артисты подняли с пола буквы, образовавшие слово «конец», дозвучала музыка, в зале медленно загорался свет.