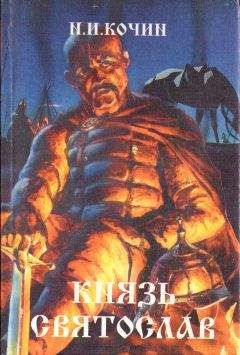В. Орлов - Он смеялся последним
— Дорогу домой знаю.
— Не домой, а к вечернему автобусу на Вилейку — там у вас творческие вечера, все организовано, афишки, прочее.
— А это к чему? Я же не знал, не готовился.
Ружевич помолчал, всматриваясь в писателя. Тот поднялся, сверху вниз выжидающе глядел на Ружевича.
— Кондрат, вы же умный.
— Ах, да. Но был бы умный, не писал бы сатиру.
— Вождь юмор, говорят, любит: не зря же пересматривает «Волгу- Волгу»!
— Юмор. да. А как отнесется к сатире? Псевдоученый — директор института.
— Послушайте. Уехать вам следует. Немедленно, — тихо внушал чекист. — Неужели непонятно?
Кондрат понял.
— Спасибо. Но хотя бы моих домашних.
— Дома все знают, они предупреждены, спокойны. И вам материальная поддержка: за каждое выступление — получка, там что-то заплатят. В Вилейке есть кому вас опекать. В гостинице телефон. Да что я вас уговариваю: уезжать — и все!
— Не пугайте: две войны прошел.
— На войне или ранят, или убьют. А тут сегодня. сложнее.
Они направились к мостику у выхода из парка. У деревянной ажурной арки, увитой дерезой, Ружевич придержал Кондрата.
— И вот что, — как бы между делом забормотал чекист. — Не возвращайтесь, пока вас не вызову: позвоню в гостиницу. Не пугайтесь, что заговорю официально: вернетесь заполнять анкету на участие в декаде.
ТОЧКА ВОЗВРАТА
Допущения:
произошло наверняка, правда, в другом областном центре.
Узкий — едва разъехаться двум фаэтонам или возам — тракт на Вилейку вымощен подогнанным булыжником: «брукованы», как тут говорят. Дорога по обе стороны часто обсажена ветлами, отклонившимися в сторону полей.
Встречные на велосипедах-«роварах» с загнутыми рулями-«баранами» съезжали перед тупоносым автобусом на обочину, некоторые здоровались, приветливо махали водителю.
Мотор старенького форда не выступал перед корпусом, а размещался непривычно: справа от водителя, ближе к передней двери, которую тот открывал хромированным рычагом.
Водитель в польской шапочке-кепурке со сложенными «ушками» всем выдавал отрывные билеты, даже тем, кто на промежуточных остановках перед выходом пытались монеты ему просто сунуть.
Он, видно, был собственником автобуса и пока не осознал, что его машина уже не его, а государственного автопарка, — и все еще привычно досматривал уплывшую собственность. Занавески с помпончиками на вымытых стеклах, печатная иконка Матери Божьей Остробрамской, фото двух летчиков — то ли рекордсменов Речи Посполитой, то ли ее погибших героев: Цвирко и Вигуры, — табличка на польском с прейскурантом платы за проезд в злотых — все придавало салону уютный вид.
Тряска не мешала: Кондрат подремывал, время от времени роняя подбородок на грудь. Лесистый край был знаком: каких-то полгода назад, в минувшем сентябре, на броне краснозвездных танков они примерно в этом районе перешли советско-польскую границу. Вот шлях пересекли рельсы однопутки из Молодечно, вот бывшая польская застава-«стражница», деревня Глинное, деревянный, но прочный — выдержал двухбашенные танки Т-26 — мост через Вилию, крутой изгиб дороги влево. Автобус резко вильнул на песчаную обочину.
Обгоняя его и отчаянно сигналя, промчался кортеж черных машин, возглавляемых двумя лимузинами ЗИС-101.
А вот и Вилейка.
По обе стороны улицы двухэтажные опрятные домики: внизу мастерская или лавочка — с некоторых еще не сняли вывески на польском; второй этаж — жилой. В центре городка справа белела церковь, у которой толпился празднично одетый народ — все с вербами, обвитыми ленточками и бумажными цветками. Вокруг стояли упорядоченно выстроенные возы с лошадьми, упрятавшими морды в торбы с овсом. Между штакетинами ограды воткнуты передние колеса десятков велосипедов. На какие-то мгновения шум мотора и автобусной тряски перекрыло слаженное хоровое пение.
Женщина, сидевшая рядом, крестилась — по груди: справа налево — на церковь; пояснила Кондрату:
— Свята: уваход Госпада у Иерусалим. Вербница.
Мужчина, сидевший через проход, завидя в свое окно проплывающий костел, тоже крестился, но — слева направо. Из костела донеслись звуки органа.
Выйдя на конечной остановке, Кондрат побрел по городку, помахивая плетеной кошелкой, которую по-советски стали называть «авоська».
Высокую гладкую стену венчала колючая проволока. По военному опыту Кондрат знал ее название: «спираль Бруно». Мелькнуло созвучие: в России Вилюйский централ, а у нас теперь — Вилейский.
Ближе к центру городка картинка была повеселее. Первые этажи некоторых домиков еще пестрели польскими вывесками.
На углу у базарной площади стоял голубой короб на колесах со спицами. Краснолицый тощий старик в белом халате и колпаке полукруглой ложкой на длинном черенке зачерпывал в коробе мороженое и презентовал розовые шарики покупателям — преимущественно детям.
Из бочки на резиновом ходу наливали в высокие кружки морс — натуральный напиток из клюквы.
Среди празднично одетых крестьян фланировали усатые паны в котелках, цокали каблучками-«абцасиками» подкрашенные пани в сетчатых перчаточках, в шляпках с вуалетками — невиданный в советских городах контингент.
Деревянная резная рама-стенд «cinema APOLLO» извещала, что сегодня в кинотеатре демонстрируется кинокомедия «Волга-Волга». И тут же: умело написанное, почти фотографически, изображение артистки Любови Орловой в веночке из полевых цветов. Кондрат подметил: «APOLLO» до поры не стали переименовывать, не усмотрев в названии враждебного вызова, а может, просто руки пока не дошли.
На подходе к гостинице увидел он, как рабочие пытались отодрать литые буквы на вывеске «Hotel «Przytulny»; отметил, что похоже на белорусское слово «прытулак» — приют.
Его поселили без анкеты и расспросов, едва назвался. В номере стояли две кровати, но одна не была застлана, значит, никого не подселят. На медный надраенный умывальник, полный воды, Кондрат выставил зубной порошок в круглой картонке «Особый». Подумалось: что могло быть особого в тертом меле?
На столе разостлал газету, перекусил салом, вареными вкрутую яйцами; разулся, прилег в тревожном ожидании, закрыл глаза. Наплывала дорога — «брукованка».
И примерещился окоп. Нет, осенью 39-го их не рыли, в них не укрывались — некогда было да и не нужно, — а запомнился окоп, вырытый в снегу в недавнюю Финскую войну. Там их, продрогших красноармейцев, в белых маскхалатах и просто в серых шинельках, сгрудилось много. Но сейчас — сон или видение? — всех, кто был рядом, словно посрезало: он высунулся и торчал из окопа один.
Никого из собратьев-сатириков: ни слева, ни справа.
Он, казалось, знал про их судьбы все. Или почти все.
Маяковский застрелился.
Кто ставил его сатиры «Клопа» и «Баню», Мейерхольд, — арестован; запрещены немедленно театральные постановки этого режиссера «Мандат» и «Самоубийца».
Эрдмана, автора этих двух сатирических пьес, забрали прямо со съемок «Веселых ребят» — фильм шел без фамилии сценариста. Кондрату давали тайком машинописные копии тех двух пьес Эрдмана; читая, восхищался остроумием автора: «В моей смерти прошу никого не винить, кроме нашей родной советской власти» или «Жить стало лучше!.. Но, я думал, в «Известиях» будет опровержение». Шептались, что Эрдмана арестовали за басни, пересказывали их. Но его, Крапивы, басни — куда острее.
Месяц назад пришла весть из Москвы: умер Булгаков. Как тот высмеивал веру большевиков в экономические чудеса в «Роковых яйцах»!..
Умер Ильф — и не пополнился ряд «12 стульев», «Золотого теленка»: Петров без него сотворил вялые беззубые сценарии музыкальных кинокомедий, будто другая рука писала.
Катаев — брат Петрова — после «Растратчиков» и «Квадратуры круга» резко посерьезнел, перековался идейно.
Умолк после «Зависти» Олеша.
Перестал смешить Зощенко: персонажи его фельетонов как раз пришли во власть, заняли руководящие кабинеты — кого обличать?..
Затаился Платонов — писал, вероятно, «в стол».
Андрей, старший брат Василя Шешелевича, взявший псевдоним «Мрый». друг Андрей — сельский учитель-галломан, виолончелист, — сослан в Карелию за роман «Записки Самсона Самосуя». Какое наслаждение от сочности его языка, упоение остроумно описанной придурковатостью персонажа — рожденного советской системой «совчина»! «Я разговариваю общими фразами, на птичьем языке, как грамохвон», — цинично признается главный персонаж романа. Самосуй собирается в город, отбирает одежду: «Кальсоны белорусские с орнаментом — для эффектных выступлений перед национальной аудиторией». А как уморительно-едко описано его понимание образования: «Советую ответственным работникам, въезжая в деревню, пристальное внимание обращать на то, на всех ли воротах мелом нацарапаны известные всем непристойные слова и ругательства и встречается ли в них «Ў» вместо обычного «У». Если на всех воротах ругательства с «Ў», значит, белорусизация проходит удовлетворительно». Самоирония — и где же тут вменяемая как криминал «нацдемовщина»?! Белинский декларировал: «Отсутствие юмора являет собой детское состояние литературы». У Мрыя даже не юмор, а как у него, у Крапивы, — сатира!.. Три журнала «Узвышша» с «Записками» зачитывали до праха, но окончание романа уже не напечатали, да и журналы из библиотек враз исчезли.. Вместе с братьями. Василь сгорел на лесоповале, а Андрей — жив ли?..