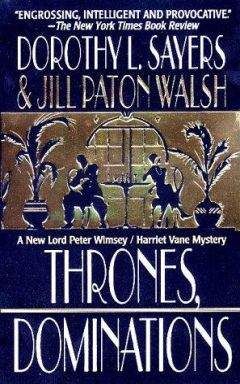Никола Седнев - В окрестностях Милены
— День какой хороший, отчего ж не пройтись на свежем воздухе?
— Почему ты не взял свою машину?! Сэкономить решил на бензине, да?!
— Я ведь пошел к твоему отцу с бутылкой коньяка. Как бы я выпивши сел за руль?..
— Так что, ты не можешь взять такси?!
— Так здесь же совсем близко, мы быстрее пешком дойдем...
— Тебе жалко потратиться на такси, да?!
— Давай ловить такси.
— Куда мы идем?
— Послушай, здесь одностороннее движение.
— Но нам же в ту сторону!
— Но здесь все машины идут в эту сторону. Надо ловить на той стороне.
— Что ты ко мне все время придираешься?! Я все у тебя делаю не так! Все не так! Не так! Что ты меня все время учишь?! Не надо меня строить! Не так свитер сложила, не так положила!..
— Это уж ты меня явно путаешь со своей мамашей. Ни про какой свитер я тебе вообще никогда ничего не говорил.
— Опять я все не так у тебя говорю!.. Видишь, ты даже остановить машину не в состоянии!.. — тут она вдруг разрыдалась.
— Так это же «скорая помощь» была.
— Видишь, тебе даже «скорая» останавливаться не хочет!.. — Я обнял Милену за плечи. — Тебе жалко денег на такси-и!.. — заскулила она сквозь слезы и прижалась ко мне.
— Не жалко, — сказал я. Самое смешное, что в это время мы как раз садились в остановившийся по моему знаку таксомотор.
— Жалко-о-о!.. — она безутешно голосила, пискляво подвывала, как левретка, которой наступили на хвостик сапожищем.
— Нет, не жалко, — сказал я и назвал шоферу свой адрес.
— Жалко-о...
— Ладно, пусть будет по-твоему — жалко, — согласился я и поводил рукой перед ее лицом — безрезультатно, зрачки не реагировали.
— Ну, вот, а ты спорил. Ты — жадина...
— Я жадина.
— Жадина.
* * *
У меня дома Милена сбросила туфли, оставшись в заштопанных носочках, поспешно улеглась, не раздеваясь, на кровать, свернулась клубочком и чуть слышно сказала, закрыв глаза, с просительными интонациями маленького ребенка:
— Я только немножко полежу, пять минуток, отдохну, а потом опять смогу с тобой ссориться, кричать...
Сев на край постели, я укрыл ее пледом, она тотчас ухватила мою руку, прижалась к ней щекой, прошептала: «Я тебя обожаю» — и моментально заснула. Через некоторое время я попытался высвободить свою ладонь, но Милена, не просыпаясь, издала жалобный протестующий звук.
Так я и сидел, боясь пошевелиться.
* * *
Утром я, как обычно, подвез Милену на занятия. Шли последние недели ее очень среднего образования. Она выпорхнула из моей «девятки», послав мне на ходу воздушный поцелуй, и зашагала к школе, к тому времени уже переименованной в гимназию (что, впрочем, на качестве обучения никак не сказалось, по крайней мере, в лучшую сторону), помахивая портфельчиком, в клетчатой юбочке и белых гольфах.
За углом я затормозил и вылез из машины.
Я стоял, прислонившись к каменному забору, пока в большом, искажающем мир зеркале для водителей трамвая снова не увидел клетчатую юбку.
Я оторвал свои лопатки от стенки и скрестил руки на груди — Наполеон на острове Эльба вперемешку с картиной Репина «Не ждали». Милена тоже замерла и стала смотреть в отражение, как я смотрю на ее отражение.
Потом она вышла из-за угла, виновато понурив голову, правда, на секунду приостановившись, поправила прическу перед фантасмагорическим зеркалом.
— Первый урок отменили, учительница заболела. Я решила пройтись.
— Кого ты думаешь обмануть, родная?
— Как ты меня назвал — «родная»? — оживилась она.
— Не цепляйся к словам. Ты уже больше недели прогуливаешь занятия. Думаешь, я не знаю?
— Откуда? А, эта вр-редина Анна Илларионовна меня заложила?
— Не важно, как узнал.
— Ой, ну, я уже не могу учиться, — она наморщила носик, и лицо ее приобрело капризное выражение. — Эта алгебра меня достала! Я в ней ни бельмеса не понимаю, как дура, только зря юбку просиживаю.
— Почему «как дура»?
— Ну, просто дура. Все равно тройку поставят. Мне больше и не надо. У меня от алгебры голова болит! И от химии! И от физики!
— Убоялась бездны премудрости?
— У меня голова болит!
— Как же ты будешь в институт поступать?
— Ну, не поступлю. Пойду в киоск сигаретами торговать.
— Но ты ведь так не думаешь, — многозначительно проронил я.
Так мы стояли и смотрели один другому в глаза. Мы вообще тогда часто вглядывались друг в друга.
— Придется тебя выпороть, — констатировал я.
— А какое ты имеешь право меня бить? Ты кто мне — отец?!
— Сейчас я тебе покажу право, — пообещал я.— И право, и лево...
— А чего ты за мной шпионишь? Шпион!
— Сейчас ты у меня получишь, — пасмурно сказал я, демонстративно расстегивая ремень.
— Ой, мамочка! Ты не имеешь права меня бить! Шпион!
— Кто шпион? — раздался рядом мужской голос.
Увлеченные перепалкой, мы и не заметили, как к нам подошел недремлющий сержант милиции.
— Он шпион! — быстро заявила Милена.
— Попрошу ваши документики, гражданин. Девушка, вам знаком этот человек? Милена быстро взяла меня под руку, прижалась ко мне, голову на мое плечо положила и заулыбалась:
— Так это же мой папа!
— А-а, — сказал сержант. — Ну... и он шпион?
— Шпион, — молниеносно подтвердила Милена. — ЦРУ.
Некоторое время милиционер перетаптывался с ноги на ногу, не зная, что сказать, как уйти. Потом вздохнул и поинтересовался:
— Извините, у вас сигаретки не найдется?
— Да, пожалуйста, — сказал я.
— Спасибо, — сказал он, прикуривая, и улыбнулся. — Хоть хорошо у вас платят там, в ЦРУ?
— Нормально, не жалуемся.
— Вам больше там шпионы не нужны?
— Нет, — сказал я. — Штат полностью укомплектован.
— Жаль...
После того, как он начал показывать нам свою удаляющуюся спину, Милена некоторое время еще стояла, прижавшись ко мне. Затем подняла голову с моего плеча и принялась изучать мою физиономию. Со вздохом сожаления оторвала свой бок от моего, потом отпустила мой локоть, отошла, откашлялась, стараясь не глядеть мне в лицо, зачем-то одернула юбку, поправила кофточку, затем стала подтягивать гольфы. Подумав, решила перевязать шнурки на своих туфлях.
Я с интересом за ней наблюдал.
* * *
Но дома ремень я все-таки снял.
— Кто дал тебе право меня бить?.. — похоже, Милена испугалась по-настоящему. Хотя кто ее знает.
— Твоя мама разрешила, если не будешь слушаться, дать тебе хорошо ремнем, — тоном, не предвещающим ничего хорошего, объявил я.
Милена с радостным визгом улетела за стол и торопливо сообщила:
— Мама сказала: «Забирайте ее к чертовой матери, куда хотите с моих глаз!» А про ремень она ничего не говорила!
— Это она мне потом наедине сказала, — зловеще произнес я. Некоторое время мы с ней кружили вокруг стола, я сатанински хохотал, пару раз испробовав ремень на неповинной столешнице, Милена тоненько кричала: «Аи», потом она остановилась, закрыла лицо руками и завопила:
— Ой, мамочка!..
Я мрачно приблизился.
— Ты не имеешь права меня бить... — сказала она срывающимся шепотом, полным благоговейного восторга.
Бить ее я, конечно, не стал. Тем более, что она пообещала больше не прогуливать занятия.
Для пресловутого постороннего наблюдателя, которого так любили привлекать в «свидетели» романисты прошлых веков, это, наверное, выглядело бы трагикомично — как играют в семью, в видимость домашнего очага два человека, лишенные своих семей.
* * *
Я нашел Володю в саду психбольницы, и он сел со мной на скамейку. — Я получил результаты последнего твоего тестирования, — сказал он. — Ты раньше очень медленно выходил из депрессии, сейчас даже простым глазом видно резкое улучшение. Ты прямо расцветать стал. Знаешь, я как психиатр должен тебе заявить: по-видимому, эта девочка благотворно влияет на тебя.
— Я сам это чувствую, — сказал я, наблюдая, как флегматичные личности в полосатых пижамах вяло вскапывают грядки. — Другие заводят собачку, а я завел Милену...
Он хмыкнул и с приподнятой бровью воззрился на меня:
— Приятно иметь дело с пациентом, который все понимает. Может, ты еще знаешь, как это все у вас с ней называется?
— Компенсация. Замещение.
— Скоро у меня хлеб отбирать будешь... Ты спишь с ней?
— Нет, что ты. Она же еще совсем ребенок.
— Я боюсь выражать это словами...
— Говори.
— Хотя... Ты уже это выдержишь. Ладно, давай вместе попробуем сформулировать вслух: я думаю, в лице этой девочки тебе удалось вновь — иллюзорно — обрести свою дочь...
— Милена — протез дочери?.. Я протез ее отца... два инвалида — взаимное протезирование?..
Володя издал что-то вроде хрюканья, затем дико захохотал, закашлялся, застонал, с довольным видом потирая ладони, вскочил, теперь уже с остаточным негромким смешком, сжал мои предплечья и стал празднично трясти, отчего скамейка начала эротично поскрипывать в такт его движениям:
— Если б ты знал, дружище, как я рад, что ты уже можешь шутить!.. Улыбаться!