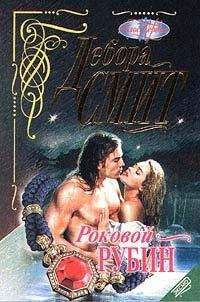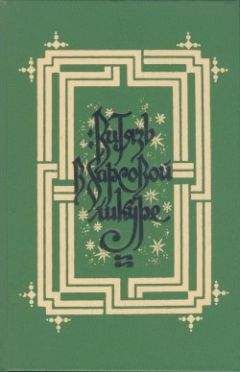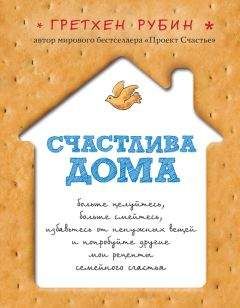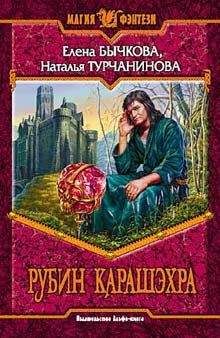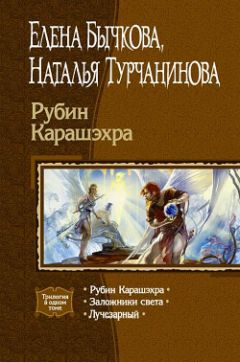Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
— О, так вы далеко пойдете. Тогда я должен был бы всех моих больных отправить к праотцам.
— Да уж, насчет ваших больных — было бы просто даже гуманнее отправлять их к праотцам.
— Ну знаете ли, ваши рассуждения насчет «к стенке» — просто патология. Так же как война — разве это не патология, не массовый психоз? А поклонения культам? Да боже ты мой, ну что мы знаем о самих себе? Нет, я за эти вазочки и за эти слезы.
Врач все-таки — человек, подумал я. Согласен и насчет вазочки. Катя разбила. Я тоже. У всех она есть — эта вазочка. Только вот криминалисту подавай стенку за малейшую провинность. Ох, сколько бы мне пришлось ставить к стенке моих пацанов, да и всех пацанов мира! Надо бы познакомиться с психиатром поближе. Может быть, даже пригласить в группу, разобрались бы вместе кое в чем, а в награду я бы подарил ему самодельные финочки, которые иногда делает кто-нибудь из моих учеников. Это ведь тоже психические дебри: финочки-самоделки...
— Простите, можно спросить у вас? — обратился я к Самохлебову.
Он быстро повернулся ко мне. Смотрел он внимательно, умно и непринужденно. И не было в нем ничего «врачебного»: «я знаю, в общем, столько же, сколько и все знают о болячках, о внутренностях и психических тайнах человека, ну разве чуть-чуть больше», — говорили мне его глаза.
— Понимаете, я работаю мастером в профтехучилище. Возраст от четырнадцати до восемнадцати...
— Самое время для срывов, — сразу понял меня Самохлебов. — Если нужно кого осмотреть, посоветовать — пожалуйста. Запишите мой телефон, буду рад, или вот я вам сам напишу на спичечном коробке, дайте мне свой.
— У меня есть один ученик, он со странностями, — решил все-таки дорассказать я.
— Мы все со странностями, — снова перебил меня Владимир, — абсолютно здоровый человек — это, скорее всего, полный идиот, дебил.
— У моего парня особые странности, он уже побывал там... но туда его поместили, кажется, случайно, а душевный срыв у него остался.
— Это, конечно, разговор не наскоро. Позвоните мне, приходите, потолкуем.
Здоровье, бодрость, оптимизм были в его голосе, в лице и взгляде, и во всей крепкой, плотной фигуре. Душа успокаивалась сама собой рядом с ним. Я бы многое ему доверил.
Вдруг зафырчала, заорала радиола, все пошли в пляс, радостно привскочил и Владимир. Мне не хотелось танцевать, душно стало в комнате, шумно. Я пошел на кухню покурить.
Там, к счастью, никого, только посуда, кастрюли, еда где попало, бутылки. Выключил свет, встал у окна, закурил сигарету, прислонился лбом к стеклу. На небе еще тлела заря. Не вечер и не утро. Розовая ночь. Покой, даже не вздрагивают ветви деревьев. Только пролетают вдоль канала неяркие огни машин, ныряют под черный мост и пропадают для меня навсегда. А вон «циклоп» таращит белый глаз и наползает, накатывается на железнодорожный мост. А вот уже и последний вагон показал свою спину с тремя красными огнями. Люди-странники, вы еще, должно быть, не спите в своих зеленых вагонах. Куда везет вас поезд? Далеко, близко, а может быть, к звездам или к заре?
Зачем я здесь? Кому я нужен? И почему именно сюда я решил позвонить? А теперь — чужие лица, чужие голоса, и даже Мишкино лицо как память издалека. Нужно уметь отказываться от того, что уже не мое: я в новой жизни... Уйти бы, но почему-то не могу, кажется, что нельзя. И какая-то неправда во мне, и не сказать об этом, и не поступить иначе. Лучшие мои слова остались где-то там, за дверью, они были еще до мотоцикла, еще тогда, когда я покупал букет... Буду жениться, никого не позову: выпьем один на один и поедем на перекладных: на мотоцикле или на поезде с тремя красными огнями на последнем вагоне; укатим за поворот — и вправо, влево, на все четыре... или лучше самолетом: ярко будет заходить солнце, и я спрошу: «Кто ты?» И увижу: Она — фея в белом сиянии.
Шорох за спиной. Шаги.
Она.
— Ты что тут делаешь в темноте?
— Курю. А разве темно?
— Это мне показалось, что темно, а теперь вижу, что нет. Дай закурить. Не зажигай спичку, я прикурю от твоей сигареты. Тьфу, как горько. Никогда не думала, что так противно курить. Зачем вы только это делаете?
— Клин клином вышибаем.
— И получается?
Только теперь голос ее стал оживать, появились в нем какие-то оттенки, наш сдержанный, непрямой разговор помягчел, потеплел, но от этого стал еще более тихим и напряженным.
Катя стояла ко мне в профиль, чертила что-то пальцем на стекле, прижимаясь животом к подоконнику. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что Катя ждет ребенка. Я не сразу ответил на ее вопрос насчет курения.
— Иногда получается. Но сначала нужно отравить себя как следует этой гадостью. Вот тогда и бывает вдруг, что затягиваешься, как счастьем.
— Ты уже отравлен? — спросила Катя.
— Еще не совсем.
— А я вот совсем.
— Неужели так уж было тебе все это нужно?
— Было нужно. Был нужен. Хотела... думала. надеялась... В общем, не стоит об этом. Это только женщина может понять.
— А друг?
— Нет. Только женщина.
— Я, кажется, тебя понимал.
— Нет, нет, не нужно об этом. Я сама себя не понимаю. Скажи мне лучше, ты все один?
— Один.
— А Зойка? — спросила Катя.
— Что Зойка?! — огорчился я оттого, что она вспомнила о Зойке.
— Да так, ничего. Все ерунда. Пью вот и не пьянею. Никак.
— Невеста и не должна быть пьяной.
— Не надо, Ленька. Не надо.
— Чего не надо?
— А вот этого, всех этих «должна», «не должна». Знаю сама. Знаю, что, если хочешь жить, умей вертеться, что жена да убоится мужа, что в темноте все кошки серы, что где тонко, там и рвется, что свобода — это осознанная необходимость, что честь нужно беречь смолоду, что в огороде бузина, а в Киеве — дядька. Все знаю. А вот знаешь, чего я не знаю?
— Что ты фея.
— Я? Фея? Это что-то из сказок. Как говорится, из прекрасного далека.
— Да нет, так и есть. Вот сейчас, без электричества, при этом свете, вижу, что так и есть, ты — фея.
— А крылышки где?
— А крылышек у фей, по-моему, не бывает. Крылышки только у ангелов.
— Тогда почему я не ангел? Хочу быть ангелом.
— Нет уж, ты фея — и все. Не огорчайся, феи тоже летают. Как-то по-другому, но летают.
— Раз — и появилась, раз — и пропала, так?
— Вот-вот, именно так и было с тобой. Помнишь общежитие?
— А ты разве помнишь?
— Еще бы, я и пионерлагерь помню, и встречу зимой, и все, что потом, все я помню.
— Да, я тогда была моложе, и лучше, кажется, была.
— Фея как фея. Не хуже, не лучше.
— Была феей Сирени, а теперь — Карабос. Пусть замрет вся эта свадьба на сто, на тысячу лет — все покроется пылью и паутиной, повиснут летучие мыши на потолке, а потом явится тот...
Щелкнул выключатель, как выстрел. И сразу будто вспыхнуло белое платье и фата, и мы с Катей невольно отшатнулись друг от друга. Кухня внезапно наполнилась гостями. Стало шумно. Я стоял, делая вид, что и мне весело, а сам думал: «Зачем я здесь, в этой чужой квартире, на чужой свадьбе! Зачем я здесь?» Тревожное чувство, предчувствие беды, росло во мне. «Уходи отсюда. Сейчас самое время уйти, — думал я. — Уходи, пока не поздно». Все теперь казалось слишком шумным, фальшивым, отвратительным.
Пошел в ванную, мыл руки, лицо, а сам все думал о нашем разговоре с Катей, о нашем с ней прошлом, о том, что было когда-то возможным. И еще я думал о вечерах, вечеринках и всех шумных сборищах, на какие я только попадал, — до чего же редко бывали праздники радостными, чаще вынужденное, вымученное веселье. И вспомнил я своих мальчишек в Доме культуры сегодня на вечере и танцы под аккордеон в светлом зале. Сначала мои парни были нерешительны — вальс для них слишком «взрослый» танец, а вот когда послышались модные ритмы и можно было дать волю рукам и ногам, все такое стали вытворять... «Как обезьяны», — сказал старший мастер. Что ж, внешне, может быть, и похоже, что мальчишки кривляются по-обезьяньи, но это у них получалось так естественно и самозабвенно, что я позавидовал: как жалко, что я не умею танцевать современные танцы. Я сожалел и думал: нет, ты достаточно хорошо танцуешь, ты почти как шаман, когда перестаешь «изображать» лишь заученные движения и полностью доверяешься счастливому веселью твоих рук и ног. Вот как он, твой ученик, легкий Олег Севастьянов, и как она, знакомая незнакомка, его партнерша, застенчивая худенькая девочка и в то же время уже кокетливая женщина, знающая силу своей красоты. Он... и Она...
То был не только танец ритмов, а еще и танец чувств, танец-рассказ, признание. Она была маленькой птичкой с белыми и голубыми перьями, и ей очень нравились гладкие нежные перья, она оглаживала себя и сзади и спереди, быстро-быстро переступая веселыми ногами. Она перепрыгивала с места на место, покачивала головой. Она не знала, для чего это делает, почему ее качнуло вправо, влево, отчего она не смотрит на того, с кем танцует. Она оказывалась будто бы совсем одна.