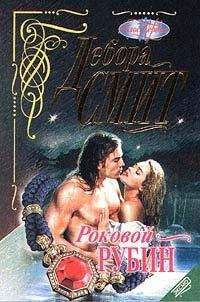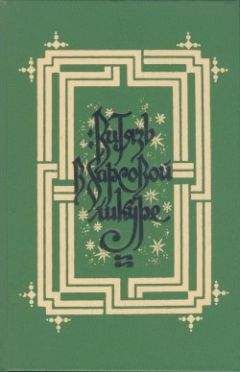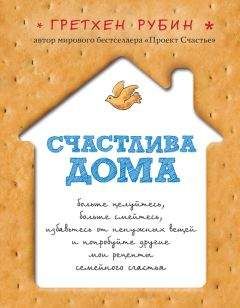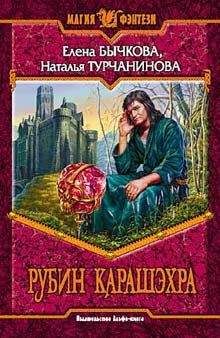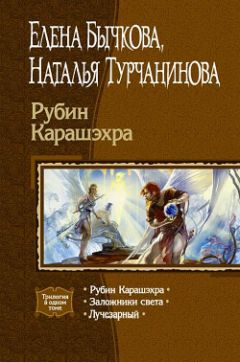Алексей Ельянов - Заботы Леонида Ефремова
— Нет, его я знаю, я про ту, что за спиной.
— Спас-на-крови. Эта церковь так называется: Спас-на-крови.
— Почему — спас?
— Ну, спас — это спасение, спаситель. То, что спасает душу. Если вымолишь у бога прощение за все земные грехи — спасешься от мук ада на том свете.
— И как это люди, Леонид Михайлович, не могли понять, что все это вранье?
— Многое непонятно.
— Но ведь бога нет. Вы верите, что бога нет?
— А ты что, сомневаешься?
Растерянным вдруг стало его лицо, как будто я застал его врасплох.
— Моя мама говорит, что люди врут, пьянствуют, убивают друг друга потому, что не верят в бога...
Я вспомнил тоненькую, тихую, растерянную женщину.
— А ты как думаешь?
— Не знаю. Может, слабохарактерность или еще что-нибудь такое...
— Люди пьянствовали и врали, даже очень веруя в бога, фанатики убивали во имя бога, чего только не было — священные войны, крестовые походы. Ты и сам про это, наверно, читал. Вера-то нужна, даже очень: в добро, в дружбу, в честность. Понимать-то мы это понимаем, да вот соблюдать это нам часто пороху не хватает. Характера, как ты верно сказал.
— Это действующая церковь? — спросил Лобов неуверенно, все еще о чем-то думая.
— Там складское помещение Малого оперного театра.
— Красивая церковь, зачем ее под склад?
— Да не такая уж она и красивая. Слишком пышная. Разукрашена вся, как будто матрешка. Мозаика только, говорят, редкостная. А так — богу молиться можно было бы и в храме поскромнее, даже лучше было бы. А с точки зрения архитектуры — это подражание московскому храму Василия Блаженного на Красной площади. В Москве не был? Нет? Там действительно чудо — ничего лишнего, праздничная, торжественная, и цвет у нее глубокий. Со вкусом подобраны оттенки местного камня. В общем, я тебе не могу это объяснить, не специалист. Если бы ты сам увидел, согласился бы. Вон Казанский собор — все четко, строго, стройно...
— А почему Спас называется «на крови»?
— На этом месте народовольцы убили царя. Послушай, Коля, как это до сих пор ты не был здесь и ничего не видел, не знаешь?
— Я Ленинград плохо знаю, — смущенно признался Лобов. — Только там, где учимся, где живу. Ходил я тут, конечно, но все как-то так...
— Да ты что?! Столько прожить в Ленинграде и не знать его? Удивляюсь. Это какой дом перед тобой, вот этот большой, немножко мрачный, со стеклянным шаром наверху?
— Это... это... сейчас скажу... «Дом книги»!
— Прочел, хитрюга. Здесь когда-то размещалась компания Зингера, короля швейных машин. А вон что за шпиль горит на солнце, в начале Невского, там еще кораблик вверху?
— Это уж я знаю — это, как его...
— Да ты что, офонарел совсем? Вспоминай быстрее, а то поколочу.
— Это Адмиралтейство, — обрадованно, как малыш, выпалил Лобов.
— А на какой площади стоит памятник Пушкину?
— Не помню, не знаю.
— А памятник Петру Первому?
— Площадь Декабристов.
— А как она раньше называлась?
— Не знаю.
— Сенатская. Рядом были Синод и Сенат. В общем, я чувствую, мне нужно показать тебе город как следует. Ты все убегал, когда я устраивал экскурсии. Теперь не убежишь?
— Нет, ни за что.
«Все правильно, все заново», — подумал я.
Мы медленно пошли по набережной канала, мимо нешироких мостиков, по узкой мостовой, она изгибалась все круче, все выше были дома, на противоположной стороне канала они светились от мягкой вечерней зари, и всюду был разлит этот теплый, мягкий свет, он успокаивал, согревал душу. Пахло асфальтом и зеленью, хоть листья были еще совсем крошечными.
Глава четвертая
В коридоре нас встретил Кузьма Георгиевич, спросил, вглядываясь в Николая:
— Это он и есть?..
— Нет, совсем другой. Того я тоже видел. Разговаривали.
— Ну и как?
— По-разному, Кузьма Георгиевич. Все еще впереди. Кое-что понял.
— Поймешь еще, поймешь, я в этом уверен. Если нужен кипяток, бери наш чайник, он только что вскипел.
— Спасибо, Кузьма Георгиевич, мы еще пока должны чего-нибудь поплотнее...
— А есть у тебя?
— Спасибо, найдется, я запасливый.
— Ну, ну, торопитесь. Вижу по глазам, какой у вас аппетит.
Лобов не ожидал, что я живу в крошечной комнатке и ничего у меня еще нет, кроме самодельной тахты-матраца, полочек с книгами, фотографий и карты на стене, старого «Рекорда» да маленького журнального голубого столика на трех ножках. Одна ножка разболталась, расклеилась, и после гостей обычно мне приходится ее снова укреплять — клеем, шурупами, гвоздиками, как придется. А гости, мои товарищи, бывают у меня часто, приходит иногда сразу человек десять — всем, в общем-то, хватает места, а вот столик невольно попадается под ноги или бывает так перегружен всякой снедью, что едва терпит.
Лобов, как только вошел, сразу же и отломал «больную» ножку и сам чуть не грохнулся на пол вместе со столиком. Слетела на пол и развалилась на черепки моя любимая братина, высокий, тонкостенный горшок с двумя ручками по бокам. Его сделал мне в подарок знаменитый горшечник дед Матвей из деревни Песчинка Ярославской области. Братина родилась при мне, на моих глазах, я любил ее и гордился ею.
Николай бросился на колени собирать черепки, его широченная спина была такой пристыженной, виноватой, что я не мог даже вздохнуть погромче от досады. Черепки братины я сложил на подоконник, а в наказание Николаю выдвинул из-под тахты картонную коробку с инструментами, гвоздями, шурупами, проволокой — в общем, со всем моим слесарным и столярным барахлом — и сказал, протягивая отвалившуюся ножку стола:
— Чини, дорогой, не смущайся. Если бы ты не отломал эту ножку, я бы даже удивился. Все, кто бывал у меня в доме, — ею крещенные. Вот когда-нибудь соберу на день рождения столика всех, кто за ним пил и ел, и устрою какой-нибудь хороший разговор, как говорят — за жизнь. Ты любишь посиделки с друзьями?
— Очень. Только вообще-то у меня еще их не бывало по-настоящему.
— Вот я тебя как-нибудь позову, когда соберутся мои друзья. Они у меня самые разные. С одними я когда-то учился в ремесленном, с другими мы встретились в литературном кружке...
— Вы пишете стихи?
— Теперь редко. В лирические минуты. Поэта из меня не вышло. Пишу для себя, для души.
— А вот скажите, Леонид Михайлович, нравятся вам стихи Никиты Славина?
«Где он теперь, — подумал я. — Что с ним? Как решил с отъездом? В какой степени два этих деревенских парня понимают друг друга? Вижу, что не простое любопытство заставило Лобова спросить, нравятся ли мне стихи Никиты. Глаза ждут, светятся».
— Да, я очень хорошо отношусь к его стихам, он человек талантливый, искренний.
— А я даже знаю одно его стихотворение наизусть. Хотите, прочту? — И, не дожидаясь моего согласия, Николай начал читать уже знакомые мне строчки:
Бежала ты, бежала ты
в оранжевых лучах.
Звенела осень ржавая
на легких каблучках.
Дубы рядами цепкими
сбегались в полукруг.
Серебряными сетками
ловил тебя паук.
А ты пробилась, вешняя,
сквозь запахи травы.
Стрела моя, слетевшая
с крученой тетивы.
Лобов шумно выдохнул воздух, как только закончил стихотворение, он читал его не переводя дух. Вот уж неожиданность, что в памяти Николая хранятся стихи, да еще такие лирические. И видно, что нравятся они ему очень.
— А что, вот если бы ему сразу пойти учиться на поэта? Зачем он время зря у нас теряет? Потом еще завод...
— На поэта выучиться нельзя. Средние стихи может писать почти каждый грамотный человек, а хорошие даются только тем, кто родился поэтом. Без таланта крыльями машешь, а взлететь не можешь. А училище, завод — Никите не помеха, если он родился поэтом.
— Но он ведь родился поэтом, у него же получается, — разгорячился Лобов.
— Для начала — да, но хватит ли у него упорства, настойчивости сберечь, развить, воспитать свой талант, вот что еще неизвестно. Ему нужно много читать, нужны встречи с интересными, тоже талантливыми людьми, много чего ему еще нужно, чтобы его юношеское дарование не оказалось просто обещанием...
Никите, ему самому, я должен был бы все это сказать, а не Лобову, но что поделаешь, если все так получилось. Лишь бы только он остался до завтра, пришел на занятие, а там... А может быть, не стоит его отговаривать? Он уходит из училища, ищет простоты, ясности, здоровья, как и я. В городе ему предстоит нелегкая борьба за все, за самого себя, а там... Нет, от себя все равно никуда не уйти, как ни кружи. Только вот увидеть бы его завтра.
— Никите надо помочь, — сказал я как бы сам себе и вспомнил разговор на лестнице с учителем эстетики, когда он настаивал, чтобы я помог Глебу Бородулину, потому что к одаренным людям нужно относиться особо. Да, это так. Только вот говорят, что все люди талантливы, каждый как бы со своим гончарным кругом... и нужно лишь помочь человеку раскрыть свой талант. Наверно, это так — одаренных не счесть, но не всякий готов принять как свое не одни лишь радости, а еще и трудности, может быть даже беды, которые неизбежно сопутствуют таланту. Никита, мне думается, может все это понять и принять, а вот как мы: Лобов, Глеб Бородулин, я сам?..